Вернуться на страницу ежегодника DOI: 10.30884/978-5-7057-6259-0_03
ВЛИЯНИЕ ПРОПАГАНДЫ И ДЕЗИНФОРМАЦИИ НА НЕСТАБИЛЬНОСТЬ В СТРАНАХ БЫВШЕЙ ЮГОСЛАВИИ: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ* Cкачать pdf
Александр Сергеевич Ходунов, Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»
В статье рассматривается влияние пропаганды и дезинформации, распространяемой путем СМИ или псевдонаучных работ, на обострение межнациональных отношений, провоцирование дестабилизации, а в некоторых случаях – и на возникновение вооруженных конфликтов в странах бывшей Югославии. Основной акцент сделан на несколько показательных случаев: пропаганда со стороны Запада против некоторых государств бывшей Югославии в 1990-е гг., а также искажение исторических событий при анализе действий Болгарии в Первой мировой войне. Данные случаи позволяют получить наглядное представление об основных приемах пропаганды и очернения противника, использующихся как западными государствами по отношению к странам бывшей Югославии, так и местными националистическими элитами и интеллектуалами. В результате создается негативный образ целых стран, а иногда и целых народов, что провоцирует нестабильность. Приводятся рекомендации по борьбе с негативными стереотипами и развитию межнациональной толерантности в регионе.
Введение
С учетом сохраняющейся напряженности в межнациональных отношениях в странах бывшей Югославии (трения между сербами и албанцами в Косово, постоянные ссоры и конфликты сербских и боснийско-мусульманских лидеров в Боснии и Герцеговине и др.), особенно с учетом резкого ускорения реконфигурации Мир-Системы и началом новой фазы борьбы за изменение мирового порядка в последнее время (Гринин 2023), имеется существенная вероятность обострения имеющихся кризисов в регионе вплоть до начала открытых военных действий. В предыдущих выпусках «Системного мониторинга» были проанализированы предыстория современных межнациональных конфликтов (Ходунов 2017) и имеющиеся оценки масштабов военных преступлений (Он же 2019). В данной статье ставится задача посмотреть на межнациональные конфликты под другим углом, а именно – с точки зрения влияния негативных стереотипов и пропаганды с целью очернения противника как со стороны внешних игроков (страны Запада), так и со стороны властей и прессы самих государств региона. Как известно, негативные стереотипы и пропаганда против какой-либо стороны конфликта способствуют активизации и обострению имеющихся противоречий, что, в свою очередь, резко повышает риски нестабильности. В статье также будут приведены рекомендации по преодолению негативных стереотипов и смягчению агрессивной риторики в регионе.
Пропаганда Запада против некоторых стран
бывшей Югославии в 1990-е гг.: причины,
тенденции, результаты
Неожиданные для многих наблюдателей ожесточенные вооруженные конфликты, охватившие распадающуюся Югославию в начале 1990-х гг. после почти полувека мирного развития, привели к огромному материальному ущербу, примерно 150 тысячам смертей и миллионам беженцев, лишившихся в одночасье своих домов и имущества. В условиях стремительно менявшейся политической карты Балкан западные страны старались выбрать наиболее выгодную для себя траекторию этих изменений. Позиция стран Запада во главе с США по югославскому кризису претерпела на протяжении 1990-х гг. кардинальные изменения. Для донесения своей позиции и распространения ее как среди своих граждан, так и во всем мире ведущие западные политики широко использовали СМИ, которые зачастую очень односторонне подавали сложную картину югославских событий.
Если говорить более конкретно, интересам США и Западной Европы в конце 1990-х гг. отвечало ослабление военного и экономического потенциала Сербии и отделение от нее Косово, в котором американцы получили бы ключевые политические и экономические позиции. Однако в начале 1990-х гг. ситуация была прямо противоположной: тогда Запад считал, что его интересам отвечает сохранение Югославии под контролем Белграда. Увидев, что этого невозможно добиться, так как сопротивление хорватов и боснийских мусульман слишком велико, западные страны решили, что их интересы в новых условиях лежат в недопущении появления среди новых государств сильного игрока, способного доминировать в регионе, которого они видели в Сербии.
Первым вооруженным конфликтом, начавшимся в тогда еще единой Югославии, стала война в Хорватии, продолжавшаяся с лета 1991 г. до лета 1995 г. У этой войны существуют совершенно разные оценки в Белграде и Загребе. Среди сербских историков и политиков война воспринимается как насильственная сецессия Хорватии, организованная сепаратистскими антиюгославскими элементами, тогда как хорватские историки и политики считают войну оборонительной, направленной на недопущение проекта «Великой Сербии», включающей в себя всю Черногорию, Македонию, Боснию и Герцеговину и примерно две трети Хорватии, которую, по их версии, планировал создать Слободан Милошевич и открыто провозглашал ультраправый сербский политик, лидер Сербской радикальной партии Воислав Шешель.
Существуют данные, собранные хорватским Министерством здравоохранения с использованием всех необходимых правил, которые представляются в высшей степени достоверными (см.: Hebrang 2013: 83–100). Согласно им, основные жертвы в этой войне и в плане убитых мирных жителей, и в плане разрушения инфраструктуры понесла, вне всякого сомнения, Хорватия. Этот тезис представляется логичным, учитывая, что ни один хорватский солдат не вторгался на территорию Сербии, а все военные действия велись исключительно на территории Хорватии (Рис. 1).
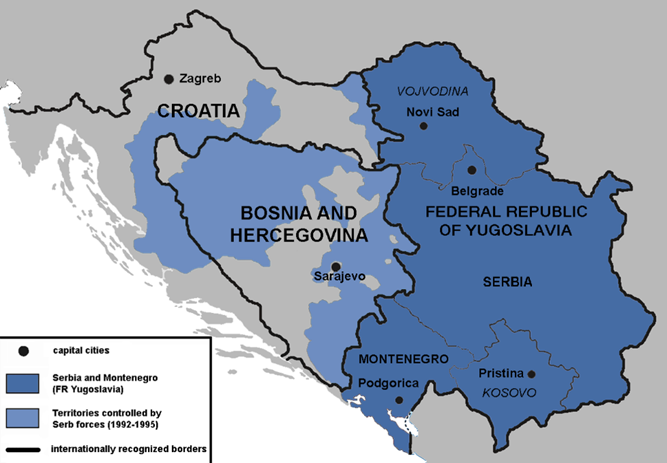
Рис. 1. Союзная Республика Югославия и территории в Хорватии и Боснии и Герцеговине под контролем сербских сил к середине 1992 г.
Источник: https://en.wikipedia.org/wiki/Serbia_in_the_Yugoslav_Wars#/media/
File:Serbia_in_the_Yugoslav_Wars.png.
При этом, несмотря на утверждения лидеров хорватских сербов, что они вели оборонительную войну исключительно на территориях Хорватии с сербским большинством, фактические данные четко показывают, что на самом деле войной были охвачены многие города и деревни, где подавляющее большинство составляли хорваты. В частности, широко известны осада и обстрел населенного преимущественно хорватами Дубровника, старые кварталы которого считаются жемчужиной Адриатики и внесены в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО, осенью-зимой 1991 г. За это преступление в Гаагском трибунале были осуждены генерал Югославской народной армии (ЮНА) Павле Стругар – на 7,5 лет и адмирал Миодраг Йокич – на 7 лет (Sense Centar za tranzicijsku pravdu 2023).
Андрия Хебранг, министр здравоохранения Хорватии в 1990–1992 и 1993–1998 гг., в своей книге перечисляет более 500 хорватских городов и деревень, в то или иное время подвергавшихся обстрелу ЮНА, которая превратилась к тому времени в фактически сербскую армию под руководством почти исключительно сербского высшего офицерства. Обстрелу подверглась и центральная часть столицы страны Загреба с целью убийства хорватского руководства. Было также разрушено более 200 тыс. хорватских домов и квартир, а также 17 больниц, из них три – полностью уничтожены. О силе агрессии говорит тот факт, что по самым густонаселенным хорватским районам и кварталам было произведено 30 тыс. обстрелов, в том числе по больницам – 5 тыс. (хорватские силы никогда не обстреливали больницы и поликлиники при занятии территорий в Хорватии и Западной Боснии в 1994–1995 гг.). Кроме того, сербские офицеры разместили тяжелую артиллерию на территории Боснии и Герцеговины, входившей на тот момент в состав Югославии, и оттуда интенсивно обстреливали населенные пункты в Хорватии, убив большое количество мирных жителей (Hebrang 2013). На оккупированной сербскими войсками территории было создано никем не признанное государство Республика Сербская Краина, из которой были изгнаны 210 тыс. хорватов и других несербов. До 40 тыс. хорватов также было изгнано (давлением и угрозами) из сербской автономной области Воеводина, где не было военных действий. Активные военные действия были приостановлены в начале 1992 г., после международного признания Хорватии (Nazor 2011). Всего сербскими войсками и иррегулярными формированиями в Хорватии было убито более 8 тыс. мирных жителей, главным образом хорватской национальности (с учетом ранних смертей из-за тяжелых заболеваний, тем или иным образом вызванных военными действиями, истинная цифра умерших может быть несколько выше). Из них зарегистрировано и внесено в единую базу данных 7,3 тыс. человек, в том числе 44 % женщин, 5 % детей, а 47 % – старше 60 лет. В основном это люди, погибшие в своих домах от обстрелов на территории под контролем хорватских властей – 4,1 тыс., но также убитые на оккупированных территориях, чья личность установлена (из них как минимум 840 не были жертвами обстрелов, а были убиты выстрелами с близкого расстояния или холодным оружием). Было также зарегистрировано 9,9 тыс. тяжелораненых мирных жителей, из них 36 % женщин и 12 % детей[1] (Hebrang 2013: 101–126). По оценке, 3 тыс. хорватских женщин были изнасилованы (Hrvatski radio Vukovar 2014).
Если говорить о позиции политического Запада относительно этой агрессии, нужно учитывать, что в начале 1990-х гг. вся дипломатия Югославии была в руках Белграда и президента Сербии Слободана Милошевича. Весь прибывавший в Югославию западный дипломатический персонал подвергался индоктринации со стороны сербской дипломатии. В результате они получали искаженную картину войны в Югославии: утверждалось, что якобы происходит вооруженный бунт хорватских радикалов против законной власти в Белграде. К тому же подавляющее большинство западных государств (кроме Германии) в начале югославского кризиса были заинтересованы в сохранении Югославии, так как она отвечала их геополитическим интересам. Также многие западные политики воспринимали Белград как своего давнего союзника в двух мировых войнах, в то время как Хорватия во Второй мировой войне воевала на стороне фашистского блока, скомпрометировав себя массовыми преступлениями против сербов, а также евреев и цыган.
Позицию Запада и особенно США по войне в Хорватии проанализировал врач из Университета Южной Калифорнии Джерри Блашкович, родившийся в семье хорватских эмигрантов. По его словам, западные политики и дипломаты плохо представляли себе ситуацию в бывшей Югославии и основывали свое восприятие югославских межнациональных отношений в первую очередь на основе книги посетившей королевскую Югославию в 1937 г. британской писательницы и журналистки Ребекки Уэст под названием «Черный ягненок и серый сокол» (Black Lamb and Grey Falcon), в которой она основное внимание уделила характеру, стремлениям и чаяниям сербов, идеализируя их и всячески поддерживая необходимость сохранения югославского государства под руководством сербской элиты, а остальным народам и их стремлениям нашлось в книге гораздо меньше места. Хорватов Уэст обвиняла в высокомерии и чрезмерном стремлении перенимать западные идеалы, пренебрегая своими славянскими корнями. Такая односторонняя подача межнациональных отношений в Югославии способствовала формированию у западных высших чиновников и дипломатов изначального доверия к сербским аргументам и убежденности в необходимости сохранить Югославию любой ценой. Посол США в Юго-славии накануне ее распада Уоррен Циммерман в своей книге «Кор-ни катастрофы» (Origins of Catastrophe) несколько раз упомянул Уэст, тем самым признав ее влияние на свои взгляды. Западные лидеры, особенно администрация Джорджа Буша, в начале военных столкновений вообще не размышляли в категориях «агрессор» и «жертва»; они считали, что югославский конфликт порожден неразрешимыми древними противоречиями балканских народов и что в любом вооруженном конфликте на Балканах всегда случаются массовые жестокие преступления, которые одинаково совершают все стороны, так что невозможно ничего сделать, чтобы остановить эти войны. Этой же позиции придерживались американские журналисты и некоторые ведущие интеллектуалы, хотя она исторически неверна. Так, сербы и хорваты до разгрома Югославии нацистами в 1941 г. не воевали между собой, а, наоборот, находились в очень хороших отношениях, хотя после создания Югославии в 1918 г. под полновластным управлением сербской элиты хорваты ощутили себя в какой-то степени обделенными. Билл Клинтон также некоторое время придерживался подобной позиции, находясь под влиянием очень популярной на Западе книги Роберта Каплана «Балканские призраки» (The Balkan Ghosts), в которой автор, посетивший Балканы в конце 1980-х гг., хотя и приводил в целом достоверные наблюдения, тем не менее, подобно Ребекке Уэст, рассуждал о неразрешимости балканских этнических конфликтов и о безусловном военном превосходстве сербов, а также поддерживал идею единой Югославии (Blaskovich 1997).
Как подчеркивает Дж. Блашкович, уже в первые месяцы военного конфликта Министерство здравоохранения Хорватии собрало документированные данные о многочисленных случаях гибели мирных жителей в различных хорватских городах и деревнях, которые Хорватия пыталась предоставить западным руководителям. Притом что сами хорватские власти не могли совершить сколько-нибудь сопоставимых преступлений, так как потеряли контроль над основными территориями с сербским большинством, и к тому же у них не было армии, а была вспомогательная полиция, в чьем распоряжении находилось несравнимо меньше оружия, чем у вооруженной до зубов Югославской народной армии, применявшей против хорватских городов танки, тяжелую артиллерию и авиацию. Тем не менее западные лидеры не обращали внимания на столь надежную информацию о жертвах среди мирного хорватского на-селения, а продолжали заявлять, что обе стороны одинаково виноваты в конфликте[2]. У. Циммерман, в частности, выступая в Госдепартаменте в сентябре 1991 г., счел причиной войны «два узких национализма» (сербский и хорватский), заявив о массовых увольнениях сербов с работы и ограблении их домов (что соответствовало действительности), но не упомянув о гораздо более значительных страданиях хорватов. Такая пассивная позиция ведущих стран Запада привела к тому, что массовая гибель мирных жителей продолжалась, хотя могла быть остановлена в случае оперативных согласованных действий. Более того, можно говорить, что США в какой-то степени дали зеленый свет Милошевичу для агрессии в отношении Хорватии, а затем Боснии и Герцеговины: в июне 1990 г. госсекретарь США Джеймс Бейкер произнес в Белграде речь, в которой подчеркнул, что необходимо сохранить Югославию «всеми возможными средствами». Он же позднее предупредил хорватские и словенские власти, чтобы они не надеялись на признание независимости их стран со стороны США. Дуглас Хёрд, министр иностранных дел Великобритании (1989–1995 гг.), также всячески препятствовал признанию независимости Хорватии и Словении, поскольку рассматривал Сербию как наследницу Югославии и противовес усиливавшейся Германии на Балканах. Эмбарго на покупку оружия в октябре 1991 г. было введено Советом безопасности ООН по инициативе британского правительства и отвечало интересам прежде всего Милошевича, который в 1990 г. предварительно отобрал оружие у всех югославских республик. Заслуживает внимания тот факт, что еще летом 1991 г., когда существовал реальный шанс предотвратить военные действия, Хёрд высказался категорически против отправки миротворческого контингента Европейского сообщества в Хорватию, и буквально через несколько дней Милошевич начал мощные обстрелы хорватских городов и деревень. Единственным западным государством, открыто осудившим агрессию против Хорватии и массовое убийство мирных жителей, была Германия. Эта страна одной из первых признала независимость Хорватии 19 декабря 1991 г., в то время как США продолжали настаивать на сохранении единства Югославии, тем самым поощряя Милошевича продолжать агрессию, и признали Хорватию и другие отделившиеся югославские республики только 7 апреля 1992 г. Германия также оказала активную гуманитарную помощь Хорватии, приняв к августу 1992 г. 240 тыс. хорватских беженцев, в то время как Франция и Великобритания вместе приняли менее 2 тыс. Необъективный подход западных политиков имел место и в дальнейшем. Так, в марте 1993 г. лорд Дэвид Оуэн, сопредседатель Международной конференции по бывшей Югославии под эгидой Европейского сообщества, дал очень длинное интервью, в котором было много дезинформации. В британской прессе встречались обвинения, что Консервативная партия в 1992 г. с ведома ее лидера и премьер-министра Джона Мейджора получила много денег от сербских кругов, после чего начала потакать интересам сербов в Боснии (Blaskovich 1997).
А. Хебранг, подтверждая слова Дж. Блашковича, также сообщает, что хорватские власти постоянно отправляли западным политическим лидерам и лидерам некоторых международных организаций данные о страданиях хорватских мирных жителей и разрушениях больниц, подкрепленные доказательствами, однако на них не было никакой реакции. Также участники обороны Хорватии столкнулись с тем, что некоторые международные организации, несмотря на официальную нейтральность, фактически тем или иным образом помогали сербским войскам занимать осажденные хорватские учреждения, объекты и больницы, не обращая внимания ни на жертвы среди хорватов, ни на тактику военных действий Югославской народной армии, противоречащую нормам международного права. Так, во время осады Вуковара организация «Врачи без границ» разрешила хорватам организовать только один конвой, с помощью которого были эвакуированы 104 раненых из вуковарской больницы, при этом запретив эвакуировать оставшихся (которые впоследствии были убиты) и не позволив передать в больницу лекарства и медицинские материалы и заменить обессилевших от тяжелейшей работы врачей новыми врачами-добровольцами. Миссия наблюдателей Европейского сообщества поставила хорватам условие по эвакуации всех жителей Вуковара, что фактически означало его быстрый переход в руки сербских войск. Французский министр здравоохранения Бернар Кушнер, чтобы снять осаду с Дубровника, предложил провести его демилитаризацию, подразумевавшую эвакуацию всех хорватских военных и мирных жителей и потерю контроля над городом со стороны Хорватии с передачей ключей от города Европейскому сообществу, на что хорватские власти не могли пойти из патриотических соображений. Эмбарго на покупку оружия для бывших югославских республик фактически означало закрепление полного превосходства режима Милошевича в вооружениях, так что хорватам пришлось покупать оружие нелегально, чтобы защитить свои города. Большую помощь хорватам в приобретении необходимого для фронта оружия и лекарств оказала хорватская диаспора, проживавшая в США и Западной Европе (Heb-rang 2013).
Особенно активно распространяли антихорватскую пропаганду ведущие западные СМИ, в первую очередь британские, которые цитировали сербские источники без какой-либо проверки. Хотя в российской науке и публицистике часто встречается мнение, что Запад в лице своих властей и крупнейших СМИ всегда и во всех военных конфликтах априори настроен против сербов, события 1991 г. четко показали, что крупнейшие западные телекомпании и новостные агентства (такие как Reuter и Associated Press) в том конфликте заняли однозначную просербскую и антихорватскую позицию, руководствуясь интересами своих государств по сохранению Югославии любой ценой. В первые месяцы войны они передавали только сербскую версию происходящего, игнорируя хорватскую. Доходило до того, что очень часто мирные хорваты, убитые сербскими войсками, выдавались этими СМИ за убитых хорватами мирных сербов. Информацию искажали также военные наблюдатели ООН, развернутые в Хорватии, прежде всего британские. Так, в мае 1995 г. последние распространили информацию о якобы массовых бесчеловечных преследованиях сербов хорватскими войсками в ходе операции «Молния» по восстановлению контроля над Восточной Славонией, которая позднее была опровергнута сотрудниками организации Human Rights Watch, заявившими, что ООН распространила ложные сведения, чтобы оказать давление на правительство Хорватии. Особую активность в очернении обороны Хорватии проявлял крупнейший американский телеканал CNN, проигнорировавший множество доказанных фактов о преступлениях над хорватами. В частности, в конце ноября 1991 г. канал каждый час объявлял в прямом эфире новость о якобы убийстве хорватскими боевыми подразделениями 41 сербского ребенка в возрасте от 5 до 7 лет в подвале в городе Вуковар, которая, как оказалось впоследствии, была сфабрикована. Новость первоначально опубликовало британское агентство Reuter, но позже журналист агентства признал, что это была постановка. В результате был создан крайне негативный образ Хорватии и хорватской обороны – ее военные были представлены как незаконные вооруженные формирования, убивающие мирных жителей и детей, в отличие от «легитимной» Югославской народной армии. Сербские войска совершили новые преступления против хорватов в качестве мести за это вымышленное убийство детей (Blaskovich 1997: 16–18). А. Хебранг вспоминает о том, как ему позвонила сотрудница CNN, спросив, чувствует ли он как министр здравоохранения вину за убийство хорватскими войсками 41 ребенка. На это он ответил, что ни один сербский ребенок в Вуковаре не пострадал, в отличие от десятков хорватских детей, убитых сербской артиллерией в своих домах, и что вину должна чувствовать она, так как собирается опубликовать непроверенную информацию без каких-либо доказательств в виде фотографий и имен жертв. Несмотря на его опровержение, новость была опубликована (Hebrang 2013: 215–216). Первая новость о страданиях хорватов на CNN была сообщена только в конце декабря 1991 г. (убийство как минимум 58 хорватов сербскими полувоенными формированиями «Белые орлы», подчинявшимися В. Шешелю, и разрушение 750-летней католической церкви в селе Вочин), и то только потому, что в качестве интервьюируемого был приглашен Дж. Блашкович как американский гражданин. Но в итоге из его получасового интервью оставили меньше минуты. Информацию о резне в Вочине активно распространял в США также конгрессмен-демократ Фрэнк Макклоски, находившийся в то время в Хорватии. Позиция Макклоски в конечном счете могла повлиять на политику Демократической партии и президента Клинтона по снятию эмбарго на оружие для стран бывшей Югославии и другим активным действиям, чтобы остановить конфликт (Blaskovich 1997: 71–80).
Немаловажно, что многие западные СМИ, особенно британские, ошибочно отождествляли события в начале 1990-х гг. в Югославии с событиями во время Второй мировой войны, когда Хорватия действительно была главным агрессором в бывшей Югославии наряду с нацистской Германией. Обвинения Хорватии в 1990-х гг. в «возрождении усташской идеологии» усугублялись тем, что СМИ иногда приводили многократно преувеличенное число жертв со стороны марионеточного Независимого государства Хорватия (НГХ), существовавшего в 1941–1945 гг. – якобы 500 тыс. убитых мирных сербов и десятки тысяч евреев и цыган в системе лагерей смерти «Ясеновац» (Vulliamy 1991). Тем самым создавался крайне негативный образ хорватского государства в целом. Фактически, по оценке сербского историка Драгана Цветковича, всего в системе усташских лагерей смерти было убито от 122 до 130 тыс. человек разных национальностей, преимущественно сербов (63 %), но также цыган (15,5 %), евреев (14,7 %), хорватов (4,9 %) и бошняков (1,1 %) (Cvetković 2021), что, безусловно, представляет собой огромную цифру и говорит о жестокости усташей, но все же в несколько раз меньше ничем не обоснованных оценок, приводившихся в западных СМИ, очевидно, под влиянием Белграда (якобы от 500 тыс. до 1 млн человек). Несложные демографические расчеты показывают, что общее число убитых усташами сербских мирных жителей на всей территории НГХ за все время ее существования, как в концлагерях, так и вне их, не могло быть существенно больше, чем 200 тыс. (но реальная цифра убитых теоретически может быть даже заметно меньше этой), а непосредственно в убийствах принимало участие не более 3 % хорватских взрослых мужчин (Ходунов 2019).
К тому же малоизвестен тот факт, что крупнейший геноцид на Балканах (точнее, крупнейший геноцид, совершенный выходцами с Балкан) в ХХ в. совершила не Хорватия, а Румыния, чьи власти в 1941–1942 гг. уничтожили, по некоторым оценкам, от 270 до 320 тыс. евреев, 12,5 тыс. цыган и тысячи русских и украинцев – они погибли в концлагерях от голода и болезней или были убиты румынскими войсками. Геноцид был сознательно организован румынскими руководителями во главе с диктатором Ионом Анто-неску, хотя отдельные чиновники и представители оппозиции были против. В основном пострадали евреи на оккупированных территориях СССР, в то время как евреи – граждане Румынии в подавляющем большинстве случаев пережили войну (Chioveanu 2007). С особой жестокостью румынские фашисты уничтожали евреев после захвата Одессы в октябре 1941 г., где только за первую неделю оккупации румынскими войсками с помощью немецко-нацистских эскадронов смерти были зверски убиты около 34 тыс. евреев, что сопровождалось многочисленными изнасилованиями и грабежами (Вергилис 2016). Тем самым очевидно, что масштабы геноцида на Балканах во Второй мировой войне вовсе не зависели от принадлежности народа к католической вере (а значит, от подверженности «пропаганде Ватикана»), как считают некоторые сербские националисты, а определялись степенью пропаганды ненависти к соседним народам в обстановке союза с нацизмом вне зависимости от господствующей конфессии. В Румынии велась особо интенсивная антисемитская пропаганда, раздувавшая предрассудки части румынского крестьянства в отношении евреев, в которой участвовали даже представители высшего духовенства Румынской церкви, полностью поддерживавшие режим Антонеску и обвинявшие евреев во всех бедах румынского государства и народа. Патриарх Никодим, по некоторым данным, не только был равнодушен к положению румынских евреев, но и сам воспринял нацистскую идеологию ненависти к еврейскому народу, назвав евреев проклятым народом и врагами христианства. Тем временем началась депортация евреев в немецкие лагеря смерти. Патриарх и митрополит Николае Балан вмешались в ситуацию только после настойчивых просьб главного раввина Александра Шафрана остановить депортацию. Никодим связался с Антонеску, но не смог добиться отмены депортаций. Затем осенью 1942 г. митрополит Балан связался с румынскими властями, и в итоге удалось остановить депортации и спасти основную часть евреев Центральной Румынии (Ancel 1993). Разумеется, спасение основной части евреев «старой» Румынии могло быть обусловлено соображениями прагматизма – например, возможности перейти на сторону антигитлеровской коалиции в случае военных неудач Германии с использованием того аргумента, что Румыния сохранила жизнь большинству своих граждан-евреев. Но позиция служителей церкви (под влиянием иудейского духовенства) была важным фактором.
Все это означает, что неправильно представлять Хорватию в качестве главного центра фашизма и геноцида на Балканах во Второй мировой войне. Хотя недопустимо также преуменьшать или вовсе отрицать преступления усташей, как делают некоторые хорватские ревизионисты (Grgurinović 2018): радикальное преуменьшение или отрицание массовых усташских злодеяний представляет собой, по сути, оскорбление потомков жертв усташей. Ведь существует множество доказательств преступлений усташей. Помимо убийств в концлагерях, зафиксированы также случаи массовых убийств значительной (а иногда и большей) части жителей крупных сербских деревень в Хорватии, таких как Дивосело, где в августе 1941 г. усташами были уничтожены 907 жителей, включая женщин и детей (см.: Vujnović 2022). На базе документов из хорватских архивов совсем недавно удалось установить, что в мае 1942 г. из 12 сербских деревень в центральной Хорватии по приказу министра вооруженных сил НГХ Славко Кватерника были интернированы в лагеря смерти 1250 сербов, из них умерли 1056 человек, в том числе в нацистских концлагерях – 91, а в усташских – 965, из них 380 женщин и 361 ребенок. Больше всего жертв было в деревне Кинячка: 290, в том числе 101 женщина и 114 детей (Radanović 2023). Особенно массово убивали представителей сербской элиты: учителей, торговцев, служителей церкви. Простые сербы во многих случаях могли сохранить себе жизнь, перейдя в католичество, то есть фактически ассимилируясь с хорватами. В убийствах принимала участие некоторая часть католических священников (Беляков 2009). Однако загребский архиепископ Алоизие Степинац в мае 1941 г. написал письмо лидеру НГХ Анте Павеличу, протестуя против убийства 260 сербских мужчин в церкви в городе Глина, так как оно противоречит католическим заповедям, и просил, чтобы больше не было убийств сербов без суда, иначе хорватское государство ожидает крах; письмо осталось без ответа (Perić 2017: 187–188). По некоторым данным, Степинац спас большое количество сербов и евреев от усташских репрессий (Laudato 2021), в частности позволил вывезти в Сербию епископа Досифея Васича, который был избит усташской полицией в тюрьме Загреба, после чего доставлен в больницу, где ему оказали первую помощь хорватские католические монахини (Jovanović 2022). Отождествление хорватских властей 1990-х гг. с преступным режимом 1940-х гг. легко опровергается тем фактом, что в 1990-х гг. в Хорватии не было антисемитизма. Глава еврейской общины Загреба Ненад Поргес от имени всех еврейских общин страны 7 октября 1991 г. опубликовал обращение к мировому еврейству, в котором говорил, что Хорватия подвергается грубой агрессии сухопутных войск, авиации и флота ЮНА с многочисленными жертвами и разрушениями, от которой в том числе страдают еврейские памятники культуры, и утверждал, что хорватские власти ясно осудили неофашистскую идеологию и помогают евреям, которые пользуются всеми правами (Porges 1991).
В 1990-е гг. негативным стереотипам о Хорватии оказались подвержены даже некоторые лидеры западных стран. Отдельно следует сказать о позиции президента Франции Франсуа Миттерана, который занимал, пожалуй, наиболее просербскую позицию среди других западных лидеров. Он открыто заявлял, что больше всего в югославском конфликте симпатизирует сербам как союзникам французского антифашистского сопротивления во Второй мировой войне и одним из главных жертв нацизма, и обвинял хорватов в поддержке нацистов во время войны (Horvatić 2018). Ошибкой Ф. Миттерана было проецирование ситуации Второй мировой войны на реалии 1991 г., которые резко отличались. Такая его позиция способствовала отсутствию помощи разоруженной Хорватии. Так, в своем интервью «Франкфуртер альгемайне цайтунг» в декабре 1991 г., уже после разрушения Вуковара, то есть когда стали ясны намерения и методы режима Милошевича в отношении Хорватии, Миттеран, продолжая мыслить в категориях 1940-х гг., вспоминал о страдании многих сербов в хорватских лагерях смерти, указывал, что Хорватия, в отличие от Сербии, была в союзе с нацистами, и говорил, что сегодня Сербия хочет не завоевать Хорватию, а только в той или иной форме добиться контроля над сербским меньшинством в ней (Skoko 2015).
Западные СМИ начали постепенно менять свой подход к освещению югославских войн только во время осады и обстрела крупных городов Вуковар и Дубровник – трагедию такого масштаба уже невозможно было скрыть или проигнорировать. 14 января 1992 г. 104 нобелевских лауреата по инициативе американского химика Лайнуса Полинга подписали требование к западным государствам остановить разрушения хорватских городов, что стало первым в истории объединением такого количества нобелевских лауреатов ради общего дела (Blaskovich 1997: 61). Однако западные лидеры продолжали занимать нейтральную (фактически удовлетворявшую интересы С. Милошевича) позицию в конфликте. В апреле 1992 г., после начала войны в Боснии и Герцеговине, западные лидеры продолжали занимать равноудаленную позицию, не вмешиваясь в ситуацию. Ф. Миттеран в июне 1992 г. прибыл в осажденный Сараево, где помог установить воздушный мост с гуманитарной помощью, однако не стал осуждать сербские войска, которые несли основную ответственность за осаду (Horvatić 2018).
Вместе с тем многие крупные западные СМИ, включая CNN, в течение 1992 г. изменили свою позицию и стали обвинять прежде всего сербские войска в боснийской трагедии, рассказывая о страданиях мирного населения Сараево из-за осады и обстрелов, а также об убийствах и изгнании мусульман из Восточной Боснии. Во Франции в начале боснийского конфликта ведущие СМИ были настроены просербски, но к концу года стали писать об агрессии сербских сил против боснийских мусульман, а в 1993 г. – публиковать репортажи об этнических чистках, устраиваемых сербскими отрядами. Наиболее негативно по отношению к сербской стороне были настроены немецкие СМИ, вплоть до оскорбительных для сербов карикатур; одновременно они идеализировали хорватов и мусульман. Некоторые американские средства массовой информации призывали правительство принять меры против войск боснийских сербов. Особенно много материалов с обвинениями против сербских войск и описаниями преступлений появилось в американских и бри-танских СМИ после резни в Сребренице (Макартур 2007: 70–103).
Западные лидеры в целом продолжали незаинтересованно относиться к войне в Боснии. Когда в апреле 1992 г. появилась достоверная информация о массовых преступлениях сербских войск в этой стране, в том числе о концлагерях, советник президента США по Югославии, а затем (1992–1993 гг.) госсекретарь США Лоуренс Иглбергер выразил сомнение в их аутентичности и настаивал на одинаковой вине трех сторон. Иглбергер в 1977–1980 гг. занимал должность посла США в Югославии и был тесно связан с режимом С. Милошевича, являясь членом правления одного из югославских правительственных банков, чем объясняется его позиция по невмешательству Запада в конфликт, который, как он утверждал, вызван глубокой взаимной межэтнической ненавистью, так что его невозможно остановить извне, а единственным решением является сохранение единой Югославии. Доклад для Дж. Буша о сербских концлагерях, подготовленный югославским отделом Госдепартамента, был сфальсифицирован секретариатом Иглбергера; в нем утверждалось, что все стороны боснийского конфликта открыли одинаковое количество концлагерей. Иглбергер вместе с бывшим госсекретарем Г. Киссинджером, бывшим военным атташе США в Белграде Брентом Скоукрофтом (советником Дж. Буша по национальной безопасности в 1989–1993 гг.) и бывшим министром иностранных дел Великобритании Питером Каррингтоном (представителем ООН на переговорах по югославскому кризису) через принадлежавшую Киссинджеру международную консалтинговую фирму привлекли в Югославию сотни миллионов долларов частных инвестиций и были заинтересованы в ее сохранении или, во всяком случае, в переходе как можно больших территорий под контроль официального Белграда. Иглбергер и другие лоббисты Белграда в администрации Дж. Буша саботировали любую акцию, способную подорвать позиции сербской стороны. Представленный в мае 1992 г. доклад американской разведки по поводу осады Сараево с аэрофотоснимками, в котором говорилось, что 95 % сербской артиллерии, обстреливающей город, расположено в полях и на дорогах, легко обнаруживается с воздуха и может быть уничтожено за один день, был проигнорирован администрацией Буша. Иглбергер постоянно старался скрыть или опровергнуть собиравшуюся отдельными сотрудниками Госдепартамента достоверную информацию, которая свидетельствовала об основной вине сербских войск за преступления в Боснии, стараясь искусственно уравнять преступления всех сторон. Из западных лидеров в 1992 г. только бывший премьер-министр Великобритании Маргарет Тэтчер ясно осудила этнические чистки, совершавшиеся войсками Ратко Младича. Необъективную позицию занимал канадский генерал Льюис Маккензи, командующий сараевским сектором миротворческих сил ООН, который настаивал на одинаковой ответственности всех сторон и обвинял боснийских мусульман в том, что они сами обстреливают собственную столицу, чтобы привлечь внимание СМИ (есть мнение, что он получил крупную сумму от официальной сербской лоббистской организации в США SerbNet). Офицеры ООН зачастую игнорировали предупреждения боснийских властей о готовящихся преступлениях войск Младича в тех или иных городах, тем самым оставляя их жителей на произвол судьбы, не оказав им помощи, что приводило к массовым убийствам и изгнаниям горожан, как произошло в Горажде в 1994 г. и особенно в Сребренице в 1995 г. Хотя силы ООН не реагировали на масштабные преступления сербских сил по отношению к бошнякам, как только боснийско-мусульманские силы в конце 1994 г. начали наступление, в ходе которого были совершены отдельные преступления над сербами, командующий миссией ООН генерал Майкл Роуз сразу же пригрозил им авиаударами, что ярко продемонстрировало двойные стандарты миссии. Папа Римский Иоанн Павел II обвинил международное сообщество в преступном бездействии в югославском кризисе. Под давлением общественного мнения из-за опубликованных фотографий расстрелов и концлагерей, в организации которых обвинялись сербские войска, западные лидеры, не готовые рассматривать военную интервенцию для остановки конфликта, стали обсуждать идею ввести экономические санкции против Сербии, чтобы принудить ее к миру. Тогда П. Каррингтон использовал свое влияние, чтобы отложить их введение. Правительство США ввело санкции, чтобы показать обществу, что оно старается как-то повлиять на конфликт, однако утвердило наименее серьезные санкции первого уровня (из трех возможных), при этом часто закрывая глаза на их нарушение со стороны собственных граждан (Blaskovich 1997). В мае 1992 г. против Сербии и Черногории были введены санкции ООН по обвинению в агрессии против Боснии и Герцеговины. Санкции серьезно осложнили жизнь обычным гражданам, но не привели к остановке войны.
Планы мирного урегулирования, которые предлагали ООН и Евросоюз, подразумевающие федерализацию Боснии и Герцеговины по национальному признаку, провалились. Новый президент США Б. Клинтон вскоре изменил американскую политику в югославском кризисе. Он заговорил об основной ответственности сербской стороны за боснийскую войну и в 1993 г. призвал к отмене эмбарго на оружие для боснийских мусульман (при сохранении и даже ужесточении санкций против Сербии) и одновременно к воздушным ударам по боевым позициям боснийских сербов (англ. lift and strike). Тогда он встретил противодействие со стороны Великобритании, Франции и собственных военных кругов. Однако США в рамках политики по сдерживанию сербов удалось объединить вооруженные силы боснийских мусульман и боснийских хорватов, прекратив их двухлетний военный конфликт[3] и создав боснийско-хорватскую федерацию в марте 1994 г., а также объявить с помощью ООН шесть городов Боснии зонами безопасности, запретив тем самым сербским войскам занимать их. Авиаудары НАТО по позициям сербских войск все-таки произошли в августе-сентябре 1995 г. в качестве ответных мер на обстрел сараевского рынка Маркале, в котором обвинили сербов, но они случились уже после трагедии в Сребренице, которая входила в число зон безопасности. Вскоре война окончилась подписанием Дейтонских соглашений 21 ноября (Кузнецов 2016).
В целом пассивность и равнодушие западных стран в боснийском конфликте имели еще более катастрофические последствия, чем в случае Хорватии, и привели к гибели в общей сложности до 100 тыс. человек, а 2 млн стали беженцами и перемещенными лицами. В одном только Сараево, на территории, подконтрольной центральным властям Боснии и Герцеговины, погибли 5,6 тыс. мирных жителей, из них – 1,8 тыс. женщин и 611 детей; бошняков погибло 3,9 тыс., сербов – 1,1 тыс., а хорватов – 0,5 тыс. Подавляющее большинство умерло в результате четырехлетней осады и каждодневных обстрелов войск Ратко Младича. Часть мирных сараевских сербов была убита 10-й бригадой армии Боснии и Герцеговины, но их число точно не установлено. За преступления в Сараево Гаагский трибунал осудил командиров осаждавшего город Сараевско-Романийского корпуса армии Республики Сербской Станислава Галича (пожизненное заключение) и Драгомира Милошевича (29 лет). Политик Биляна Плавшич за организацию преступлений в Сараево получила 11 лет тюрьмы (Džananović 2020).
Как сообщает боснийский серб Миро Лазович, спикер парламента Боснии и Герцеговины во время войны и член боснийской делегации по переговорам в Дейтоне, именно Клинтон остановил продвижение армии Боснии и Герцеговины в союзе с хорватскими войсками на столицу непризнанной тогда Республики Сербской, город Баня-Лука, осенью 1995 г., и в результате республика была сохранена, получив очень широкую автономию в составе Боснии, хотя и с сильно урезанной территорией. На сохранении названия «Республика Сербская» для этой автономии настоял Слободан Милошевич, поставив это в качестве условия своего участия в мирной конференции (N1 BiH 2019). Это означает, что США даже в 1995 г. не были антисербски настроены и останавливали другие стороны конфликта, чтобы они не нанесли сербам большой ущерб. Более того, США фактически помогли сербам добиться своих основных целей в Боснии и Герцеговине, разрешив наделить Республику Сербскую полномочиями почти на уровне независимого государства (правда, в результате этого сама Босния и Герцеговина стала фактически не функционирующим государством) и отдав ей половину территории, притом что сербы составляют лишь треть населения Боснии.
Закончить войну в Боснии и добиться перевеса над сербами помогли также хорватские войска, действовавшие в союзе с боснийскими, которые в августе 1995 г. нанесли поражение сербам в Краине, проведя операцию «Буря» (хорв. Oluja). По словам бывшего посла США в Хорватии Питера Гэлбрейта, американцы разрешили хорватам провести операцию в августе 1995 г. только потому, что незадолго до этого произошла резня в Сребренице со стороны командующего армией боснийских сербов Ратко Младича, который мог устроить аналогичную резню, причем с гораздо большим количеством жертв, в случае падения осажденного сербами боснийско-мусульманского анклава вокруг г. Бихач. Чтобы остановить действия Младича, требовалось активное вмешательство хорватских войск, которые могли бы пробраться к Бихачу, нанеся поражение сербам в Краине, что и произошло (Telegraf 2012). То есть, если верить П. Гэлбрейту, США еще долгое время не разрешали бы Хорватии освободить свои земли, если бы не чрезвычайные обстоятельства, что подтверждает отсутствие в Белом доме симпатии к хорватскому государству в тот период, хотя сербская общественность обвиняет США в прохорватской ангажированности.
Характерно, что CNN после окончания операции «Буря» утверждал о якобы изгнании из Хорватии более 100 тыс. сербов хорватскими войсками (CNN 1999). П. Каррингтон, в свою очередь, заявил, что президент Хорватии Франьо Туджман виновен в изгнании более 200 тыс. мирных сербов, посчитав, что он такой же военный преступник, как и Милошевич (Brown 1999). Здесь нужно отметить, что Ф. Туджман, по свидетельству А. Хебранга, при разработке плана операции «Буря» приказал ему и другим присутствовавшим на заседании участникам операции защищать мирных сербов Краины, требуя, чтобы они остались в своих домах, и подкрепил свой приказ словами: «Зачем нам пустые хорватские земли?» (Hebrang 2013: 153). Командующие операцией генералы Анте Готовина и Младен Маркач после семилетнего судебного разбирательства были освобождены в Гаагском трибунале в ноябре 2012 г. Невиновность А. Готовины подтверждает и генерал армии Боснии и Герцеговины Вахид Каравелич, который вместе с ним руководил действиями боснийско-хорватской объединенной группировки войск в Западной Боснии осенью 1995 г. По его словам, А. Готовина является «настоящим, высокопрофессиональным офицером», говорил с ним только о военных операциях, а не об убийствах и изгнании мирных жителей и просто не мог совершить преступления, в которых его обвиняют в Гаагском трибунале. Отдельные инциденты и преступления над сербами, которые безусловно произошли в ходе операции «Буря» и особенно после нее, по мнению В. Каравелича, не были спланированы генералом: А. Готовина в обстановке всеобщего хаоса и смятения (подобная обстановка наблюдалась и в осажденном Сараево, в котором Каравелич командовал обороной) просто не имел возможности контролировать происходящее (Pavić 2006).
Адвокат А. Готовины, проживающий в Канаде иранец Пайям Ахаван, сообщает, что военные наблюдатели ООН из Норвегии сразу после окончания операции «Буря» провели расследование и выяснили, что хорватская артиллерия наносила очень точные удары по военным объектам. Также Ахаван отмечает, что существует видео, где Готовина сразу после освобождения Книна ругает своих подчиненных офицеров за то, что те не предотвратили инциденты, позорные для хорватской армии: мародерство и сожжение домов. Говоря об изгнании сербов, он отмечает, что подавляющее большинство сербов было эвакуировано самими же сербскими властями и милицией Краины до появления там хорватских войск. Сербское население согласилось на эвакуацию, так как власти несколько лет пугали его, что если придут хорватские войска, то поубивают их женщин и детей (Černivec 2018). Хорватский историк Анте Назор приводит очень важный документ – извещение Генерального штаба армии Сербской Краины для белградских властей, согласно которому удары хорватских войск по городу Книн за первые 5 часов операции (когда извещение было написано) осуществлялись в основном по военным объектам, а не по жилым домам. Это же подтверждает начальник управления артиллерии армии Краины Марко Вырцель, который в своей книге пишет, что обстрелам, причем чрезвычайно точным, подвергались строго военные объекты. Также, по словам А. Назора, нельзя обвинять хорватские войска во всех случаях гибели мирных жителей и сожжения домов: некоторые сербы, особенно пожилые, умирали в ходе быстрой и хаотичной эвакуации, и их тела оставляли на дорогах; также были отдельные случаи убийства милицией Краины сербских мужчин, не хотевших уезжать из Хорватии. Сербы, покидавшие Хорватию, оставили воспоминания о горевших домах и предприятиях еще до прихода хорватских войск. Как он отмечает, хорватские военные в «Буре» не разрушили ни одной сербской церкви. А. Назор утверждает, что Хорватия хорошо отнеслась к сербам после операции: так, оставшиеся в Краине сербы (примерно 7 тыс. человек, в основном – пожилые) получили продовольственную и медицинскую помощь от хорватского государства в сотрудничестве с международными организациями. Хорватские суды до сентября 1999 г., то есть еще при правлении Ф. Туджмана, вынесли обвинительные приговоры против 1,5 тыс. хорватов, виновных в различных преступлениях против сербов и их собственности, в том числе 12 человек были заключены в тюрьму за убийство. К 2011 г. число людей, в отношении которых прошел судебный процесс, достигло 3,7 тыс. (из них 33 – по обвинению в убийстве); причем всего 10 % из них, или 395 человек, служили в хорватской армии во время «Бури». Осуждены были в итоге 2,4 тыс. человек. По данным хорватской прокуратуры, всего во время и после операции были убиты 214 мирных жителей (Nazor 2011: 266–301).
Наконец, очень важным представляется свидетельство генерала армии Республики Сербской Краины Милисава Секулича, который в книге «Книн пал в Белграде» пишет, что хорватские войска, которые окружили большое количество сербских военных и мирных жителей в регионе Кордун, вели себя с сербами полностью адекватно и корректно, не причинив им вреда и разрешив уйти в Сербию, хотя многие опасались, что они, подобно их предкам-усташам, начнут убивать сербских женщин, детей и стариков. По мнению М. Секулича, кто-то в сербском руководстве специально отказался эвакуировать жителей Кордуна, надеясь, что хорваты действительно начнут их резню и тем самым опозорятся перед мировым сообществом, а сербская сторона, пожертвовав жителями Кордуна, решит свои политические задачи. Но ничего подобного не произошло (Секулич 2019: 301).
Все это говорит о том, что тщательное обучение хорватских солдат и офицеров всем международным правилам ведения военных действий, начавшееся еще в мае 1991 г. (см.: Hebrang 2013: 80–81), продолжалось и непосредственно перед операцией «Буря», чтобы не допустить преступлений и обеспечить корректное поведение по отношению к сербскому населению. С учетом того, что лишь откровенное меньшинство обвиняемых в преступлениях хорватов принадлежало к вооруженным силам, можно предположить, что на освобожденную территорию массово приезжали со всей Хорватии люди с криминальными наклонностями, а также родственники пострадавших от сербских обстрелов, желавшие отомстить за них, которые бесконтрольно совершали преступления в отношении незащищенных сербов, пока эффективная хорватская гражданская власть там еще не была установлена. Это подтверждает и хорватская чиновница в правительстве Туджмана Весна Шкаре-Ожболт, которая говорит, что Туджман приказал не допускать мести над сербами, добавляя, что преступные элементы отправлялись из хорватских городов в слабозащищенную войсками и полицией Краину не только спонтанно, но и при содействии определенных сил, чтобы нанести ущерб репутации Хорватии (она не указала, какие именно это были силы [Marković 2018]). Значит, необходимо было каким-то образом обеспечить контроль со стороны хорватской армии над въездом на освобожденную территорию на длительное время, до тех пор, пока не будут сформированы адекватные институты гражданской власти, способные предотвращать преступления, чего по каким-то причинам не было сделано, что привело к трагическим последствиям.
Более того, у хорватских сербов была вполне реальная возможность избежать операции «Буря». По словам сербского политика Вука Драшковича, который в 1990-е гг. был противником режима Милошевича, международное сообщество приготовило план «Z-4» от имени четырех государств и организаций: России, США, Евросоюза и ООН. План подразумевал предоставление хорватским сербам широчайшей автономии вплоть до собственного президента, парламента, полиции и даже валюты, при условии отказа от сепаратизма и согласия на формальное вхождение в состав Хорватии. Хорватские лидеры после долгих споров и возражений согласились принять план. Однако лидеры хорватских сербов с подачи официального Белграда, в котором чрезвычайно выгодный для сербов план назвали «коварным антисербским заговором Вашингтона, Берлина и Ватикана», отказались от плана, после чего со стороны Хорватии был реализован силовой вариант. По некоторым сведениям, Милошевич непосредственно перед атакой хорватов приказал убрать тяжелую артиллерию с территории Краины. Из всех крупных партий Сербии только Сербское движение обновления В. Драшковича поддержало план и предупреждало о катастрофических последствиях в случае отказа (Drašković 2020). Пропаганда о «насильственном изгнании сербов» была, по мнению В. Шкаре-Ожболт, изобретена в Белграде, чтобы свалить вину за массовый исход сербов на Хорватию и очернить ее перед мировым сообществом. Еще в первые дни после «Бури» сербские СМИ писали о сознательной и организованной эвакуации сербов (факт эвакуации первоначально признавал даже бывший секретарь правительства Сербской Краины Саво Штырбац), но потом дискурс быстро изменился, и в Сербии все стали говорить о жестоком насильственном вытеснении сербов из Краины хорватскими войсками. Сербская дипломатия с помощью своих лоббистов на Западе распространила среди мирового сообщества нарратив об «этнической чистке сербов», заглушив голоса хорватских дипломатов (Marković 2018).
Однако ошибочно полностью идеализировать историю Хорватии в 1990-х гг. Несмотря на крайне серьезные усилия хорватского правительства по предотвращению преступлений, в стране существовала радикальная Хорватская партия права, открыто прославлявшая усташей и создавшая свое полувоенное формирование ХОС, которое использовало усташскую символику. Некоторые члены ХОС совершили ряд преступлений, в том числе убийство некоторых сербских семей вместе с детьми (Štrbac 2021).
Стоит также отметить массовые демонстрации в Белграде против агрессии на Хорватию как знак несогласия с политикой Милошевича. Так, 5 октября 1991 г. состоялась акция солидарности жителей Белграда с жителями осажденного Дубровника. Более тысячи студентов и пять преподавателей истории Белградского университета подписали петицию против осады и обстрелов города. На протесте подчеркивали, что жители Дубровника во время Второй мировой войны помогали сербам Герцеговины. Певец и гитарист Милан Младенович из белградской рок-группы «Екатерина Великая» на своих концертах просил публику почтить память жертв Дубровника минутой молчания (Marušić 2015). 30 лет спустя, 18 ноября 2021 г., специальный представитель президента Сербии Александра Вучича журналист Веран Матич встал на колени перед памятником убитым пациентам вуковарской больницы, объяснив это стремлением искренне почтить память жертв (Bradarić 2020).
Стоит упомянуть также о позиции Международного трибунала по бывшей Югославии (МТБЮ) по отношению к Хорватии. По словам хорватской журналистки Вишни Старешины, много времени посвятившей исследованию деятельности МТБЮ, его председатели, включая Карлу дель Понте (1999–2008 гг.), заняли пристрастную позицию, пытаясь уравнять всех участников конфликта, что отражало позицию западных государств. Заместитель прокурора в 1994–2004 гг. Грэм Блюитт из Австралии и его круг долгое время саботировали расследования против Милошевича о его преступлениях в Хорватии и Боснии. По словам представителя Карлы дель Понте Флоренс Хартман многие сотрудники Трибунала жаловались на доминирование австралийско-британского лобби: граждане Австралии (в том числе несколько протеже Блюитта), Новой Зеландии и Великобритании занимали 10 из 17 мест в отделе по расследованиям прокуратуры МТБЮ. По просьбе дель Понте американский юрист Джон Ценчич в сентябре 2001 г. подготовил список лиц, обвиняемых в преступлениях по делу Милошевича: кроме самого лидера Югославии, в него вошли некоторые высшие офицеры югославской армии и спецслужб (прежде всего офицер контрразведки Александр Васильевич, обвиненный в подготовке множества преступлений в Хорватии), а также лидеры полувоенных формирований и политические лидеры хорватских сербов. Узнав об этом, официальный Белград поставил себе цель освободить от ответственности хотя бы офицеров собственной армии и спецслужб, чтобы прикрыть свою роль в агрессии в отношении Хорватии и Боснии, и начал действовать в этом направлении. К. дель Понте, не заинтересованная в осуждении политических и военных лидеров Сербии, согласилась на условия Белграда. Таким образом была достигнута договоренность с обвиняемыми высшими офицерами югославских спецслужб, включая А. Васильевича, согласно которой они освобождались от ответственности за преступления (а Сербия – от ответственности за агрессию) в обмен на сотрудничество с Трибуналом. Вся вина за военные преступления в итоге должна была возлагаться только на отдельных сербских офицеров, но в основном – на местных лидеров и иррегулярные формирования. Трибунал переквалифицировал войну в Хорватии с сербской агрессии на обычную гражданскую войну, а основной акцент в процессе против С. Милошевича был сделан на преступлениях в Косово (Милошевич умер в 2006 г., до окончания процесса). В результате приговор по Вуковару, вынесенный под председательством австралийского судьи Кевина Паркера, фактически исключал основную массу преступлений, произошедших при обстреле города сербскими войсками, и охватил только отдельный завершающий эпизод преступлений – массовое убийство 260 больных и раненых пациентов вуковарской больницы в ноябре 1991 г. Мало того, из приговора были исключены все сербские офицеры спецслужб, планировавшие и организовавшие основные преступления в Вуковаре, в том числе и расстрел пациентов; им удалось уйти от ответственности. Освобожден был и офицер ЮНА Мирослав Радич, которого В. Старешина считает виновным в преступлениях, а другой офицер Веселин Шливанчанин был осужден на 10 лет – большой срок, но значительно меньше, чем предусматривали преступления, по которым он был изначально обвинен (вначале судьи вменяли ему в вину серьезнейшее преступление: соучастие в ликвидации пациентов, а затем заменили это обвинение менее серьезным – жестокое обращение с ними при транспортировке). В то время как приговор в июне 2010 г. по массовым убийствам пленных в Сребренице, которые совершались по той же самой схеме, что и убийства раненых в Вуковаре, включал в себя не только непосредственных руководителей преступления, но и представителей спецслужб Сербии, организовавших ликвидации пленных – двое из них получили пожизненное заключение, а третий, несмотря на сотрудничество с судом, получил 35 лет тюрьмы (если бы был применен тот же подход, что и в Вуковаре, все трое были бы освобождены). Исходя из этого случая, В. Старешина делает вывод об антихорватской пристрастности МТБЮ, чье руководство, во всяком случае в анализируемый ей очень важный для Хорватии период его деятельности, стремилось снять ответственность с высших офицеров Сербии за преступления в Хорватии и существенно преуменьшить сам масштаб этих преступлений (Kamenjar 2017).
Очередной эпизод нестабильности с большими человеческими жертвами произошел в бывшей Югославии в 1998–1999 гг. на территории автономного края Косово. В начале 1990-х гг. албанцы устраивали массовые ненасильственные демонстрации из-за отмены автономии края и произвола сербской полиции. В дальнейшем борьбу за независимость начала так называемая Армия освобождения Косово (АОК). Она уничтожала сербских солдат и полицейских, а радикальные ее представители также убивали мирных сербов и албанцев, лояльных сербским властям и работавших в сербских государственных структурах. Западные лидеры, обвинив Милошевича в убийствах и изгнании косовских албанцев, поставили ему ультиматум о выводе сербских войск с территории края, и после отказа начались бомбардировки НАТО, продолжавшиеся 78 дней. После этого армия и полиция Сербии покинули Косово, и там был размещен международный миротворческий контингент KFOR под руководством НАТО. Однако он не справился с задачей предотвратить преступления над сербами и другими неалбанцами. Основная часть сербского населения летом 1999 г. покинула Косово (за исключением трех районов северного Косово, которые до подписания Сербией Брюссельского соглашения 2013 г. оставались под фактическим управлением Сербии). 17 февраля 2008 г. Косово провозгласило независимость, которая сразу же была признана западными государствами.
В обострении косовского конфликта, помимо действий администрации С. Милошевича, заметную роль могла также сыграть демографическая динамика. Косово характеризовалось быстрым падением смертности, особенно младенческой (со 164 ‰ в 1955 г. до 57,7 ‰ в 1980 г.), очень быстрым ростом населения (только за 1981–1991 гг. число косовских албанцев выросло на 31,1 %), быстрым ростом урбанизации (с 17 % в 1961 г. до 29 % в 1981 г. у албанцев), высокой долей молодежи при одновременно высоких показателях безработицы (Николич 2010). В такой ситуации в разных странах мира постоянно происходили кровавые внутриполитические потрясения (см.: Коротаев и др. 2010: 159–226). Политическую нестабильность и постоянные массовые беспорядки в Косово, наблюдавшиеся начиная с 1981 г., можно объяснить среди прочего высокой долей молодежи в населении на фоне экономического кризиса 1980-х гг. в Югославии. Политические репрессии администрации Милошевича в крае и увольнение албанцев с государственных предприятий и образовательных учреждений в такой ситуации не привели к успокоению обстановки, а наоборот, спровоцировали взрыв в виде вооруженного восстания албанцев и массового вступления албанской молодежи в отряды сепаратистов АОК.
Впрочем, стоит отметить, что были и случаи мирного, ненасильственного сопротивления режиму Милошевича со стороны албанцев. Так, в феврале – марте 1990 г. тысячи людей поставили зажженные свечи на окна и балконы, прервали работу и присоединились к пятиминутной прогулке по центру города в знак протеста против произвола и насилия над гражданами Косово. В 1991 г. в Приштине тысяча женщин участвовала в часовом протесте. 13 июня 1991 г. от 40 до 100 тыс. людей участвовали в символической акции «Мирные похороны насилия», в ходе которой в землю был закопан гроб с надписью «Насилие», а по косовским улицам ходили демонстранты с ключами как символом будущей победы над насилием, которая откроет двери свободы (Ratusrbiji 2020).
Если говорить о преступлениях во время косовского конфликта, некоторые международные организации, основываясь на документах Гаагского трибунала, считают, что президент С. Милошевич несет основную ответственность за страдания косовских албанцев. По их данным, Милошевич сам спланировал и организовал изгнание 800 тыс. албанцев в Албанию и Македонию, а 5 тыс. человек были убиты (Sense Centar za tranzicijsku pravdu 2017) в дополнение к 2 тыс. убитых и 300 тыс. изгнанных из своих домов в 1998 г. (Bellamy 2000). Подавляющее большинство косовских албанцев было или изгнано с территории Косово, или насильственно перемещено внутри края. В обследованных сотрудниками ООН деревнях центральной части Косово, где проживают в основном албанцы (всего обследована 141 деревня из 2 тыс. деревень региона), 64 % жилых домов были уничтожены или серьезно повреждены (UNHCR 1999). 70 тыс. домов в Косово были полностью или в значительной степени разрушены и сожжены. Пострадало несколько албанских католических церквей (Herscher, Riedlmayer 2000). По сербским данным к 2019 г. разрушено и повреждено 155 православных церквей и монастырей (Влашковић 2019). В то же время правительство Косово выделило деньги на восстановление православных церквей и монастырей, разрушенных в ходе погромов марта 2004 г., и большинство из них уже восстановлено, тогда как Сербия не выделяла средства на восстановление 225 разрушенных в ходе войны мечетей и исторических центров городов Джяковица и Печ (Kosovo Online 2021).
Что касается общего числа погибших по национальной структуре, по данным, собранным сербским и косовским отделениями организации «Центр гуманитарного права» на основе показаний свидетелей, документов и других источников, с января 1998 г. до декабря 2000 г. погибли или пропали без вести 13,1 тыс. человек, из них 10,4 тыс. албанцев (включая 8,6 тыс. мирных жителей), 2,2 тыс. сербов (из них 1,8 тыс. мирных жителей), 0,5 тыс. цыган, бошняков и других (среди них 0,4 тыс. мирных жителей [Domanovic 2014]). Преимущественно пострадали албанцы-мусульмане, однако на уровне отдельных деревень больше всего мирных жителей погибло в албанской католической деревне Мея, где было убито 377 мужчин от 15 до 60 лет, в том числе 36 человек младше 18 лет, а тысячи жителей этого района бежали в Албанию. Резня была местью за убийство албанцами пяти сербских полицейских, которые, по некоторым данным, занимались этническими чистками (KoSSev 2023). Очевидно, что в конфликте больше всего пострадали косовские албанцы, причем среди всех национальностей мирных жителей погибло в несколько раз больше, чем военных. Тем не менее, хотя подавляющая часть албанцев в скором времени после поражения С. Милошевича смогла вернуться в свои дома, большинство покинувших Косово сербов до сих пор не вернулось.
Ситуация 1990-х гг. резко отличается от событий Второй мировой войны, когда Косово стало частью итальянского протектората Великая Албания, а основными жертвами были косовские сербы, в основном из мирного населения, которых погибло 9–10 тыс. (из них 7 тыс. были убиты албанскими формированиями, а остальные – немецкими, итальянскими и болгарскими войсками). От 90 до 100 тыс. сербов были вынуждены покинуть Косово. Убивали в основном сербских колонистов, переселившихся после Первой мировой войны, но также и давно живущих сербов. Больше всего пострадало село Велика (север Черногории), где албанскими коллаборационистами вместе с немецкими отрядами в июле 1944 г. были убиты 428 жителей, из них большинство – женщины, дети и старики (Антонијевић 2015).
Сербские политические и военные руководители получили в МТБЮ длительные сроки заключения по обвинению в преступлениях против косовских албанцев. В частности, были осуждены генералы Небойша Павкович, Драголюб Ойданич, Владимир Лазаревич и вице-премьер правительства Милошевича Никола Шаинович. Лазаревич и Шаинович отрицают свою вину (Stojanovic 2021). В настоящее время руководители АОК (Хашим Тачи, Кадри Весели, Якуп Красничи, Реджеп Селими) находятся в Гаагском суде по обвинению в преступлениях.
Надо отметить, что позиция западных лидеров, особенно США и Великобритании, в косовском конфликте радикально отличалась от их позиции по войнам в Хорватии и Боснии. Так, госсекретарь США Мадлен Олбрайт и американский генерал, командующий объединенными силами НАТО в Европе Уэсли Кларк активно выступали за военную интервенцию против сербской стороны, указывая на случай Боснии, когда массовые преступления не были предотвращены. М. Олбрайт, в частности, говорила, что если С. Милошевича немедленно не остановить в его преступлениях над албанцами, которые он к тому моменту уже совершил в деревне Преказ в марте 1998 г., где погиб командир АОК Адем Яшари вместе с десятками членов своей семьи, включая женщин и детей, то может произойти полномасштабная этническая чистка албанцев. По ее мнению, Милошевича могла остановить только военная сила. В то же время министр обороны США Уильям Коэн выступал против военной акции, опасаясь, что она станет новым Вьетнамом. В целом позиция Олбрайт получила поддержку в администрации США и лично президента Б. Клинтона. Последний в мае 1998 г. встретился в Белом доме с политическим лидером косовских албанцев Ибрагимом Руговой и обещал, что США не допустят в Косово боснийского сценария. Планировалось ограничиться воздушными ударами НАТО без наземной операции, чтобы заставить Милошевича капитулировать. Попытки заставить сербского президента пойти на условия Запада дипломатическими методами провалились, и 24 марта 1999 г. начались бомбежки. США рассчитывали, что Милошевич сдастся уже в апреле, однако он согласился на условия Запада только в июне, опасаясь наземной операции (Barthe, David 2007).
Особенно активно лоббировала бомбардировки Сербии Великобритания в лице премьер-министра-лейбориста Тони Блэра. Он возложил всю ответственность за конфликт на сербские власти, назвал Милошевича опасным и безжалостным тираном и активно выступал также за наземную операцию против Югославии. Позиция Блэра была наиболее воинственной среди других западных лидеров. Ведущие британские СМИ (Guardian, Daily Telegraph, Times, Economist и др.) особенно активно присоединились к кампании, поддерживая действия НАТО и призывая к наземной операции в случае, если Милошевич откажется выполнить требования. Под влиянием СМИ 54 % британцев поддерживали бомбардировки Югославии, а 33 % выступали против. Пресс-секретарь Т. Блэра Алистер Кэмпбелл приехал в Брюссель и активно работал над усилением милитаристской риторики европейских СМИ. Однако в стране были и противники операции НАТО: консерватор Питер Каррингтон и лидер левого крыла лейбористов Тони Бенн, который выразил опасение, что военная акция только усилит межнациональные противоречия в регионе, и напомнил, что, когда Турция преследовала курдов, против нее никто не проводил военную операцию (Никулин 2018).
Французские СМИ также заняли одностороннюю позицию, полностью поддержав политику Запада и операцию НАТО. Часть французских СМИ рисовала негативный образ сербского народа и его истории в целом, хотя некоторые комментаторы воздерживались от очернения сербов. В то же время албанцы идеализировались как беззащитные жертвы сербских этнических чисток на протяжении всей истории, которые особенно усилились в 1999 г. Из этого делался вывод, что необходимо предоставить независимость Косово. Некоторые французские журналисты писали, что большинство сербов якобы активно поддерживает геноцид С. Милошевича в отношении албанцев. Премьер-министр Франции Лионель Жоспен поддерживал борьбу против Милошевича «во имя свободы и правосудия». Иногда западные лидеры приводили огромные цифры якобы убитых сербскими войсками албанцев. Так, Госдепартамент США сообщил, что 500 тыс. албанцев пропали без вести и, по всей видимости, были убиты. Эти же многократно преувеличенные цифры сообщались западными СМИ без их критической проверки. Французский телеканал TF1 сообщил об убийстве от 100 до 500 тыс. албанцев. Пропагандистские преувеличения страданий албанцев во французской прессе отмечали публицисты С. Альми и Д. Видаль, которые привели в качестве примера заявление французского интеллектуала Антуана Гарапона о том, что в конфликте были убиты только тысяча сербов в сравнении с сотнями тысяч албанцев, хотя после войны выяснилось, что пострадало около 10 тыс. албанцев. Правда, после окончания конфликта в прессе начали появляться сообщения о преследовании и убийствах оставшихся в крае сербов и цыган и сожжении их домов радикальным крылом АОК. Много материалов с сочувствием к сербам появилось после погромов в марте 2004 г., а корреспондент еженедельника «Marianne» Жак Дион написал об абсурдности негативных стереотипов, характерных для французских СМИ в 1999 г.: коллективная вина всех сербов в преступлениях Милошевича при безупречном и лишенном какой-либо агрессии поведении всех албанцев (см.: Лабаури 2010).
По словам российской журналистки и филолога А. А. Даниловой, проанализировавшей освещение ведущими западными англоязычными СМИ косовского конфликта в 1998–1999 гг., основной акцент делался только на преступлениях сербских войск против албанских мирных жителей, которые описывались очень подробно (иногда их масштабы сильно преувеличивались), при этом были скрыты разрушения жилых домов, памятников архитектуры, школ, больниц и гибель мирных жителей от авиаударов НАТО, а если о них и сообщалось, то только как о случайной ошибке. Действия авиации НАТО в Сербии идеализировались: утверждалось, что натовцы, в отличие от войск Милошевича, не воюют с мирным населением Сербии. Характерно, что министр иностранных дел Великобритании Робин Кук непосредственно перед началом бомбардировок НАТО заявил, что сербские силы якобы убили 100 тыс. албанцев, что во многом послужило поводом для нападения на Сербию (см.: Данилова 2011). Таким образом, можно ясно видеть проалбанскую односторонность крупных западных СМИ в косовском конфликте с целью оправдать решение западных правительств по бомбардировкам Сербии.
Однако представляется не совсем правильным утверждать, что НАТО в Сербии бомбило прежде всего гражданские объекты, жилые дома и общественные здания. По данным исследователей, основной целью организации были прежде всего военные и связанные с ними инфраструктурные и промышленные объекты (казармы, дороги, мосты, военные аэродромы, заводы военной техники и вооружения и др.), однако из-за ошибок, неисправности оружия или намеренных преступлений пострадало большое количество мирных жителей. Пилоты НАТО зачастую не предпринимали должных усилий, чтобы удостовериться, что вблизи военных объектов нет мирных жителей, сами они находились на большой высоте и в полной безопасности. Крупнейшими случаями преступлений НАТО в ходе операции 1999 г. были: удар по пассажирскому поезду в ущелье Гырделица, когда погибли 14 человек, а 16 были ранены; бомбардировка колонны албанских беженцев около города Джяковица, когда погибли 70–75 человек и были ранены около 100; удар по телецентру РТС в Белграде, когда погибли 16 человек; удар по китайскому посольству в Белграде, когда погибли три гражданина Китая и 14 были ранены (США были вынуждены выплатить КНР компенсацию); бомбардировка колонны албанских беженцев в деревне Кориша, когда погибли 87 человек и были ранены около 60 (Voon 2001). Также серьезно пострадал город Ниш, по которому удары наносились запрещенными кассетными бомбами, в результате чего в общей сложности погибли 26 и были тяжело ранены 60 мирных жителей (Južne vesti 2023). Еще серьезнее пострадал небольшой город Сурдулица: в городе и его окрестностях было убито 50 мирных жителей, из них 18 детей, ранено 204, разрушено или повреждено более 500 домов (RTS 2009). Всего по данным организации «Центр гуманитарного права», которая проанализировала более 6 тыс. документов и свидетельских показаний, в ходе бомбардировок НАТО погибли как минимум 300 военных и полицейских (274 сербских и 26 бойцов АОК) и 454 мирных жителя, из них 207 сербов и черногорцев, 219 албанцев, 14 цыган (Fond za humanitarno pravo 2018).
Впрочем, Сербия гораздо больше пострадала от бомбардировок во время Второй мировой войны. 6 апреля 1941 г. немецкая авиация подвергла бомбовым ударам Белград. Бомбардировка была осуществлена по приказу Гитлера без какой-либо военной необходимости и из желания отомстить сербам за антигитлеровские демонстрации 27 марта, как признавал на суде в Белграде после войны фельдмаршал Эвальд фон Клейст. В этот день погибли, по наиболее взвешенным оценкам, около 4 тыс. мирных жителей и было серьезно разрушено или полностью уничтожено 2,6 тыс. зданий – значительная часть жилого фонда. Нацисты целенаправленно бомбили густонаселенные кварталы, больницы, здание Народной библиотеки, в которой полностью сгорел весь фонд из 350 тыс. книг и уникальных средневековых рукописей. Сотни людей были убиты и ранены при авиаударах по Вознесенской церкви и бомбоубежищу (Telegraf 2017). В Белграде же в 1999 г. подавляющее большинство зданий после бомбардировок НАТО остались целыми. Город в дни войны в целом жил обычной повседневной жизнью, продолжали работу школы, магазины, кафе и рестораны, хотя множество людей ощущали страх, опасаясь стать жертвой авиаударов, а многие на время уехали из города. Страх через некоторое время сменился чувством народного единства и желанием противостоять агрессии, что нашло отражение в регулярных музыкальных концертах на Площади республики, символизировавших стойкость народа перед лицом нападения (Радивојевић 2022). Тем самым НАТО действовала в целом далеко не так разрушительно, как немецкие самолеты в 1941 г., хотя ошибки и преступления ее пилотов, безусловно, необходимо осудить.
Правительство России оказывало гуманитарную помощь пострадавшему от бомбежек мирному населению Югославии. Еще во время бомбардировок НАТО МЧС России развернуло в районе крупного города Ниш мобильный госпиталь, который за два месяца оказал помощь более 3 тыс. пострадавших. Российские спасатели участвовали в восстановлении разрушенных мостов, разрушенного жилья и водоснабжения (МЧС России 2020). С мая по ноябрь 1999 г. авиацией и автотранспортом МЧС России в СРЮ было доставлено около 1650 тонн гуманитарных грузов, из них 800 тонн – в Косово (в основном палатки, одеяла и спальные мешки для тех, кто лишился крова из-за бомбовых ударов, а также еда и лекарства). Помощь распределялась среди всех нуждающихся, вне зависимости от их национальности и вероисповедания. Кроме России, в оказании гуманитарной помощи Югославии участвовали Швейцария, Австрия и Греция, объединившиеся с Россией в рамках программы «Фокус» для координации своих действий. Основную часть гуманитарных грузов (1329 тонн) предоставила Швейцария (РИА Новости 2019).
В целом можно сказать, что ведущие западные лидеры и крупнейшие западные СМИ в течение 1990-х гг. резко пересмотрели свою позицию, перейдя от стремления сохранить единство Югославии к стремлению отделить Косово от Сербии, что сопровождалось интенсивными бомбежками последней со стороны НАТО и признанием независимости Косово. Эти действия были направлены на реализацию интересов США на Балканах и в мире в целом. В массовом сербском сознании такая политика привела к разочарованию в современном Западе и усилению поддержки России, а также Китая, Ирана и других формирующихся незападных центров силы в современном мире, которые в 1999 г. осудили бомбардировки НАТО, а сегодня не признают независимость Косово. Так, согласно опросу, проведенному в июле 2023 г., если бы Сербии нужно было выбрать между БРИКС и Евросоюзом, 46,9 % опрошенных граждан поддержало бы вступление в БРИКС, и только 35 % – в Евросоюз. 61,4 % опрошенных считают, что доллар перестанет быть ведущей мировой валютой к 2030 г. В качестве основного экономического партнера граждане видят Евросоюз – 69,9 %, затем Китай – 18,6 % и Россию – 11 %. Однако главным политическим партнером в Сербии считают Россию – 48,3 %, а Евросоюз только на втором месте – 29,4 %. Китай таковым считают 17,5 % опрошенных (Danas 2023). Исходя из этих результатов, вполне возможно, что в ближайшие годы в Сербии укрепятся позиции евроскептичных политических сил и произойдут определенные корректировки во внешнеполитическом курсе, который сейчас направлен на вступление в Евросоюз.
Анализ деятельности Межсоюзной комиссии
1918 г. по расследованию военных
преступлений Болгарии против сербов:
объективность или пропаганда?
Для анализа влияния государственных дискурсов о событиях военной истории на процессы нестабильности в странах бывшей Югославии можно рассмотреть один из наиболее ярких случаев: деятельность Межсоюзной комиссии, основанной сербским правительством в ноябре 1918 г. для расследования военных преступлений Болгарии в Восточной Сербии и Македонии в 1915–1918 гг., которая помимо сербов включала двух представителей от стран Антанты (Франции и Великобритании). Несмотря на более чем столетнюю давность, в последние годы интерес к результатам работы Комиссии в Сербии резко возрос, и они широко используются в сербской науке и публицистике. В значительной степени в современной сербской науке именно на базе результатов работы комиссии строится восприятие современной истории болгарского государства. Это обуславливает актуальность анализа деятельности комиссии для сегодняшних межнациональных отношений на Балканах.
Тот факт, что в составе комиссии заседали помимо сербских также и иностранные эксперты, позволяет изначально предположить ее объективность. Однако комиссия создавалась непосредственно сербскими властями, а это означает, что на нее возлагались определенные политические задачи в конкретно-исторических условиях. В этой связи возникает главный вопрос: насколько работа комиссии была объективна и беспристрастна и насколько стремление к объективному установлению правды о страданиях сербов входило в противоречие с заданными правительством внешнеполитическими целями? Этому вопросу и посвящен данный раздел статьи.
В целом вопрос рассмотрения особенностей деятельности и степени объективности анализируемых комиссий пока еще не привлек серьезного внимания российских и зарубежных историков, хотя по нему существует несколько серьезных исследований историков из Сербии и Болгарии. Что касается деятельности Межсоюзной комиссии, прежде всего нужно отметить исследование М. Писарри – итальянского историка, который долгое время проживает и работает в Сербии (Пизари 2021). Он в своей диссертации анализирует военные преступления австро-венгерской и особенно болгарской армии и гражданской администрации против сербов. Писарри в целом принимает выводы Межсоюзной комиссии о размерах преступлений против сербов как истинные, практически не подвергая их сомнению. Он пытается осмыслить объективность некоторых основных выводов комиссии, но не привлекает при этом альтернативных источников (например, болгарских) и поэтому в конце концов соглашается с такими выводами. Болгарский документ, в котором приводится официальное опровержение выводов комиссии, признан им в целом недостоверным, хотя подробный анализ положений документа, оспаривающих выводы комиссии, не был им произведен, что нужно признать одним из недостатков диссертации. В то время как многочисленные работы собственно сербских авторов, ссылающихся на данные комиссии, вообще не подвергаются никакому критическому анализу и автоматически принимаются на веру.
Также имеются болгарские работы, затрагивающие деятельность комиссии. От сербских работ их отличает изначальное недоверие к ее данным, так как комиссия выдвинула целый спектр чрезвычайно серьезных обвинений против болгарского государства и армии. Существует также официальный документ, подготовленный болгарской делегацией для Парижской мирной конференции – ответ на обвинения сербской делегации, то есть на обвинительные материалы комиссии (The Accusations… 1919).
Теперь можно перейти собственно к анализу объективности выводов комиссии. Сразу нужно сказать, что для качественного и подробного анализа необходима длительная работа в архивах Сербии и Болгарии. У автора данной статьи такой возможности не было. Потому это исследование нужно рассматривать как попытку очень приблизительно определить достоверность представленных данных на основе доступной информации, а также выявить наиболее очевидные преувеличения и фальсификации. Источники и литература, проанализированные с этой целью, включают в себя, помимо собственно материалов комиссии, упомянутые выше официальные документы и работы историков и публицистов, а также демографическую статистику рассматриваемых регионов с целью определения, насколько это возможно, степени демографического ущерба от военных действий.
Сомнений в объективности комиссии можно было бы избежать, если бы власти пригласили к участию в ее работе все заинтересованные стороны – другими словами, если бы в состав комиссии был включен хотя бы один представитель обвиняемого государства. Однако Межсоюзная комиссия не включила в свой состав представителей от болгар или нейтральных государств.
Далее следует проанализировать выводы, к которым пришла эта комиссия. Ее члены считают, что масштабы преступлений против сербских гражданских лиц были беспрецедентными. Кроме того, в докладе подчеркивается, что болгарским войскам была свойственна исключительная степень жестокости к сербским пленным и особенно к мирному сербскому населению. Что касается конкретных данных, в материалах комиссии утверждается, будто болгары убили тем или иным способом более 165 тыс. сербских пленных и мирных жителей. (М. Писарри считает эту цифру, вероятно, преувеличенной.) Также болгары обвиняются в массовых изнасилованиях, которые охватили женщин всех возрастов (начиная с 12-летних девочек) и произошли во всех округах оккупированной Сербии, в том числе на территории Скопского и Штипского округов Вардарской Македонии (Jovanović 2021). Говорится также, что в болгарские концлагеря были отправлены 100 тыс. пленных и мирных жителей с территории Сербии и Македонии, при этом 50 тыс. из них не вернулись домой и были убиты или умерли от невыносимых условий проживания, голода и болезней. Утверждается, что болгары убили 3 тыс. представителей сербской элиты, в том числе 200 сербских священников. В одном только Топлицком округе было убито 20 тыс. мирных жителей, причем убивали болгары преимущественно женщин и детей. Каждое убийство осуществлялось с предварительными мучениями и различными зверствами. Все убитые были ограблены, а множество домов сожжено. Также говорится о насильственной ассимиляции сербов с болгарами с помощью пропаганды, запугивания, сожжения сербских книг и рукописей. В конце доклада отмечается, что болгарские войска в оккупированной Сербии совершили все виды зверств из самых страшных времен человеческой истории, проявив особую жестокость, причиной чего является «дикая, преступная ненависть к сербам». В этой связи, утверждалось в материалах комиссии, болгарский народ представляет опасность для своих соседей (Стојановић et al. 1919).
Здесь встает вопрос, насколько достоверны приведенные данные. Вначале можно обратить внимание на момент, который вызывает больше всего вопросов. Любому знакомому с нейтральными материалами об этническом составе балканского региона в начале ХХ в. сразу же бросается в глаза, что члены Межсоюзной комиссии обвиняют болгарские войска в массовых изнасилованиях жительниц Скопского и Штипского округов и что интенсивность изнасилований в них была такой же, как и в Юго-Восточной Сербии. Но, как хорошо известно, жители этих округов, как, впрочем, и славянское население всей Македонии, в массовом болгарском сознании считались болгарами. Болгарская идентичность если не большей, то по крайней мере очень значительной части жителей современной Северной Македонии в XIX – начале ХХ в., особенно городского населения, подтверждается целым рядом работ посетивших ее европейских путешественников и этнографов, в том числе и известными российскими специалистами, в то время как сербов в Македонии было совсем мало (см., например: Григорович 1877; Вайганд 1998). Правда, очень многие македонские славяне, особенно крестьяне, хотя и говорили на болгарском языке, были элементарно неграмотными и не знали, кто они по национальности, хотя и среди них во второй половине XIX в. начался процесс постепенного распространения болгарского самосознания (см.: Струкова 2004: 86–89). Представляется крайне маловероятным, чтобы болгарские солдаты и офицеры массово и организованно насиловали женщин, которых они считали принадлежащими к собственному народу, тем более в Македонии, которая в массовом болгарском сознании считалась важнейшим регионом исторической Болгарии. А значит, по всей видимости, в данном случае мы имеем дело с сознательной фальсификацией фактов со стороны комиссии.
Характерно, что в докладе комиссии отрицается тот факт, что славянское население Македонии считало себя в значительной части болгарами, и говорится, что они были в основной массе сербами: это очевидно находится в русле официальной сербской политики того времени, согласно которой македонские славяне были «древними сербами», но сознание некоторых из них было помутнено из-за пропаганды Болгарского экзархата в конце XIX в., в результате чего среди них появилось достаточно много людей, считающих себя болгарами. На самом деле, как сообщает митрополит Мефодий Кусев (1838–1922 гг.), видный деятель болгарского национального движения, родившийся в македонском городе Прилеп, болгары преобладали в населении Македонии еще по крайней мере в Х в. И именно македонские болгары первыми на территориях с болгарским большинством (включая территорию современной Болгарии) поставили вопрос о восстановлении независимой Болгарской церкви, существовавшей в средневековой Болгарии, еще в 1830 г. То есть болгарские церковные институты вовсе не были искусственно привнесены в Македонию, как утверждают сербские ученые. Наоборот, македонцы сами выступили инициаторами их создания, точнее – возрождения (см.: Кусев 1913). Болгарская церковь, называвшаяся до установления патриархата в 1953 г. Болгарским экзархатом, была официально создана в 1870 г. с разрешения турецкого султана во многом благодаря усилиям македонского духовенства и лично Мефодия, охватив в том числе территорию Македонии. О массовой активной борьбе македонских болгар под руководством братьев Константина и Димитра Миладиновых, Григора Пырличева, Кузмана Шапкарева и других интеллектуалов из всех основных македонских городов за создание экзархата в 1860-е гг., в которой они встречали активное противодействие греческой церковной элиты Константинопольского патриархата и его сторонников, на основе документов и свидетельств того периода повествует другой известный болгарский деятель из Македонии – Коста Цырнушанов (1903–1996 [см.: Църнушанов 1996]). Существуют работы современных российских историков с конкретными примерами сильного болгарского самосознания среди македонских интеллектуалов и революционеров в конце XIX в., которые не только считали себя частью болгарского народа, но и всячески подчеркивали свое уважение и восхищение к недавно получившей независимость Болгарии, стремясь к тому, чтобы Македония стала ее частью. Чрезвычайно популярными, в том числе среди крестьян, были сборники болгарских революционных и военных песен. Обычные македонцы настолько обожали Болгарию, что даже переоценивали реальную мощь болгарской армии. Военный атташе России в Константинополе Э. Х. Калнин также называл македонских славян болгарами (см.: Лабаури 2012). Отрицание этих фактов дополнительно бросает тень сомнения на утверждения комиссии, касающиеся событий в Македонии.
Можно кратко упомянуть о таком обвинении, выдвинутом против Болгарии, как насильственная ассимиляция (болгаризация) жителей Восточной Сербии и Македонии путем уничтожения всех предметов сербской материальной и духовной культуры: изъятие у народа сербских книг и их уничтожение, а также ликвидация сербских архивов, запрет населению называть себя сербами и использовать типично сербские имена и фамилии, запрет на обучение сербскому языку и его использование в общественных местах, запрет на богослужение на сербском языке в церквях, запрет на характерные сербские религиозные традиции – отмечание праздника Крестная Слава и др. Казалось бы, уж здесь-то комиссия абсолютно права: все эти меры по насильственной ассимиляции неболгарского населения на занятых территориях подтверждаются даже самими официальными болгарскими документами, имеющимися в сербских архивах. Однако, во-первых, нужно иметь в виду, что точно такой же процедуре насильственной ассимиляции подвергались македонские болгары в 1912–1914 гг., причем она сопровождалась многочисленными случаями изгнания и даже убийства местной болгарской культурной элиты: учителей, священников, торговцев. Данные о массовых репрессиях против болгар со стороны сербской администрации, а также части сербской армии и полиции, произошедших в 1912–1913 гг., включая случаи изгнания и заключения в тюрьмы культурной элиты и насильственного навязывания сербской идентичности учителям и священникам, а также случаи изнасилования женщин, собрал болгарский ученый Л. Милетич[4]. Он отмечает, что за судьбой 140 арестованных болгарских учителей и интеллектуалов в Битольском округе следили консулы Великобритании и Австро-Венгрии, всячески стараясь облегчить их участь, пока не было принято решение изгнать их в Болгарию (Милетич 1929).
Еще более тяжелым было положение болгар в Греции. В июне – августе 1913 г. греческими войсками были убиты тысячи македонских болгар, преимущественно мирное население. О некоторых преступлениях сообщили иностранцы (в частности, российские врачи в болгарской больнице города Сере). Болгарами были перехвачены письма самих греческих солдат, в которых они писали своим родственникам, что их армия массово убивает болгар, насилует женщин и сжигает их деревни и засеянные поля по приказу своих офицеров и короля Греции Константина. Во всех письмах ясно говорится, что военные противника, а также крестьяне и горожане Южной Македонии принадлежат к болгарской национальности. В некоторых из писем военные осуждают преступления и ужасы войны. Значительную часть убитых составили женщины и дети. Под руководством греческого епископа было убито 200 человек, прятавшихся в болгарской женской гимназии. В Болгарию переселились более 100 тыс. беженцев, чье имущество оказалось уничтожено; многие из них умирали от голода, холода и эпидемий. Целые районы, прежде населенные болгарами, оказались опустошены. Официальная Греция, по утверждению Л. Милетича, приписала эти убийства болгарским войскам, выдавая убитых болгар за греков в европейской печати (Милетич 1913).
То есть в том, что касается насильственной ассимиляции, болгары совершали по отношению к сербам ровно то же самое, что незадолго до этого совершала сама сербская администрация по отношению к болгарам.
К тому же все было далеко не так просто и с национальным самосознанием жителей Юго-Восточной Сербии, которых комиссия (а вслед за ней М. Писарри и другие современные исследователи) по умолчанию целиком относит к сербскому народу. Некоторые современные сербские историки отмечают, что до вхождения региона в состав Сербии население в сельской местности действительно или считало себя сербами, или симпатизировало сербам, однако в ряде городов, в частности в г. Вранье, у жителей были сильны проболгарские симпатии и даже болгарские национальные чувства (Радосављевић 2019: 319). Лексика призренско-тимокского диалекта, на котором говорят жители Юго-Восточной Сербии (как горожане, так и жители деревень), по нашим наблюдениям, не является чисто сербской. Хотя в самой базовой части лексики (местоимения, основные глаголы, прилагательные, названия частей тела и др.) действительно преобладают слова, совпадающие с сербскими, но все же в ней присутствует также множество типично болгарских слов и выражений. Это означает, что данный регион в далеком прошлом вместе осваивали и обживали как сербы, так и болгары, поэтому его нельзя отнести к чисто сербским территориям, какими, например, являются Шумадия (Центральная Сербия) или Подринье (Западная Сербия).
Насчет города Пирот, расположенного близко к границе с Болгарией и до 1878 г. находившегося в составе Османской империи, М. Кусев сообщает, что его жители в своем большинстве считали себя вовсе не сербами, а болгарами. Как рассказал ему митрополит Евстафий, бежавший из Пирота, после того как сербские войска в 1878 г. вошли в город, они силой заставляли пиротских болгар подписывать петицию, что они якобы считают себя сербами, а многие из тех, кто отказался ее подписать, были повешены на виселицах (точное количество их неизвестно). Наряду с этим часть пиротских болгар по своей инициативе с большим риском, прячась от сербских войск, подписывала петицию о передаче Пирота Болгарии. Из-за давления со стороны сербской армии с целью заставить подписать сербскую петицию, а также из-за опасений подписывать болгарскую, в итоге подписей пиротских «сербов» оказалось даже несколько больше, чем подписей болгар (судя по данному описанию событий, болгарская петиция в городе в случае объективного и равноправного сбора подписей явно получила бы абсолютное большинство). Обе петиции затем были переданы на Берлинский конгресс, и в результате Пирот по решению конгресса был передан Сербии (см.: Кусев 1913).
Факт наличия четкого болгарского самосознания если не у большинства, то, во всяком случае, у очень значительной части жителей города подтверждается собственно сербскими источниками из 1880-х гг. Так, жителей пиротского квартала Тиябара, в котором проживала основная масса горожан, сербская администрация Пирота, а также переселенцы из центральной части Сербии считали болгарами (Николић 2022: 43–45).
На основании этих фактов можно предположить, что далеко не всегда болгаризация Юго-Восточной Сербии в Первой мировой войне была насильственной. Наверняка были случаи, когда местные жители, чувствовавшие себя болгарами (например, в том же Пироте), наоборот, приветствовали приход болгарской оккупационной администрации. Получается, Сербия сама десятилетиями осуществляла принудительную ассимиляцию (сербизацию) той части горожан региона, которые считали себя болгарами, запрещая им выражать свою болгарскую идентичность. Этот процесс ассимиляции в случае Пирота даже сопровождался убийствами некоторых наиболее активных и упорных болгар. Но данный факт был скрыт членами комиссии, чтобы возложить всю вину за насильственную ассимиляцию населения исключительно на Болгарию.
Если вернуться к теме предполагаемых массовых изнасилований, то в официальном опровержении, подготовленном болгарской делегацией, говорится, что болгарское военное командование, зная о достаточно широкой распространенности венерических заболеваний в Сербии (их зарегистрированный уровень был заметно выше, чем в Болгарии), еще в ноябре 1915 г. в своем приказе строго запретило своим солдатам и офицерам вступать в связь с сербскими женщинами, а если военный все-таки заражался от них венерическим заболеванием, это приравнивалось к намеренному самоповреждению и сурово наказывалось (смертной казнью или 15 годами заключения). Таким образом, никакого поощрения изнасилований со стороны болгарских военных руководителей не было. А обвинения в массовых изнасилованиях сербок и македонок, скорее всего, являются сознательной фальсификацией фактов со стороны комиссии. Изнасилования действительно имели место, но они были инициативой отдельных солдат и офицеров вопреки приказу об их запрете и не носили повсеместный массовый характер. Более того, в документе указано, что некоторые случаи изнасилований сербок были рассмотрены военно-полевыми судами Моравского округа (то есть Юго-Восточной Сербии), и 14 виновных были наказаны, получив от 2 до 9 лет тяжелых принудительных работ (The Accusations… 1919). Впрочем, массовые изнасилования все же имели место, но осуществлялись они отнюдь не болгарскими войсками, о чем будет детально сказано ниже.
В докладе комиссии также говорилось, что изнасилования поощрялись Болгарским экзархатом: якобы болгарский епископ Мелентий проповедовал, что сербские женщины должны отдаться болгарским солдатам, и если они забеременеют, то в этом нет ничего страшного. В болгарском документе эти обвинения названы отвратительной клеветой, так как, во-первых, Мелентий находился в македонском городе Велес, где сербов практически нет, а во-вторых, он вскоре покинул Македонию и переселился в Константинополь. Необоснованными болгарская делегация сочла также обвинения против лейтенанта Чавдарова, который якобы приказал зараженным венерическими заболеваниями солдатам насиловать сербских девушек: расследование, проведенное болгарами, показало, что Чавдаров, напротив, отличался безупречным поведением в течение своего краткого пребывания в Сербии (Ibid.).
Разумеется, документ, представленный болгарской делегацией, так же как и доклад комиссии, был целенаправленно составлен государственным органом с определенными задачами, и поэтому к нему также надо относиться с большой осторожностью. Тем более что он обходит молчанием некоторые виды массовых преступлений, которые, без сомнения, имели место со стороны болгарских войск (а именно массовое убийство сербской элиты). Но к случаям, когда в нем приводятся конкретные приказы, а тем более свидетельства, полученные из сербских источников, можно отнестись с достаточно высокой степенью доверия. Доверие к обвинениям сербской комиссии существенно снижает тот факт, что она в случае отдельных высокопоставленных болгарских деятелей не стесняется прибегать к откровенной клевете. Это усиливает опасения, что основным стимулом в ее работе был все-таки политический заказ, а не стремление установить истинный масштаб сербских страданий от болгарских войск.
Сильные сомнения в факте массовых изнасилований со стороны болгар вызывает и то обстоятельство, что по-настоящему беспристрастная Специальная международная комиссия, посетившая Балканы в августе – сентябре 1913 г. и состоявшая из авторитетных и уважаемых деятелей (в их числе – российский ученый и политик П. Н. Милюков), утверждала, что в балканских войнах 1912–1913 гг. именно болгарская армия совершила меньше всего изнасилований благодаря патриархальному воспитанию многих болгарских солдат, формировавшему у них скромность и дисциплинированность. В частности, гречанки не боялись болгарских солдат и называли их девушками в шинелях (Carnegie… 1914). Представляется совершенно невероятным, чтобы армия, для которой изнасилования были в целом нехарактерны, буквально за пару лет настолько радикально изменилась, что стала совершать бесконтрольные массовые изнасилования, в том числе над своим собственным народом.
Что касается общего числа жертв среди сербов, приведенного в докладе, очевидно, что и оно резко завышено. В болгарском документе – опровержении говорится, что было зарегистрировано всего 5,5 тыс. смертей сербов в болгарских лагерях для интернированных (включая и умерших от эпидемии испанки) среди 35 тыс. интернированных, в то время как комиссия приводит данные о 50 тыс. смертей. Интернированным и пленным давали еду того же качества и в том же количестве, что и солдатам болгарской армии. Болгарский доклад в подтверждение того, что с большинством пленных и интернированных обращались хорошо, приводит также письма самих сербских пленных, свидетельствующие о нормальных условиях жизни в некоторых болгарских лагерях и о заботе о пленных и раненых со стороны болгарских офицеров и врачей. Также болгарский доклад сообщает о том, что сербские социал-демократы Триша Кацлерович и Иван Попович на конференции в Стокгольме заявили, что у них была возможность в течение первых месяцев наблюдать за ситуацией в австро-венгерской и болгарской оккупационных зонах Сербии. По их свидетельствам, до прихода болгарской гражданской администрации практически не было преступлений – краж, изнасилований и убийств – со стороны болгарских войск (несмотря на то что в первые дни оккупации, когда еще не был установлен оккупационный режим, солдаты могли безнаказанно делать с населением все, что хотели). Ситуация в оккупированной Болгарией части Сербии была гораздо лучше и спокойнее для населения, чем на территориях, занятых Австро-Венгрией. Многие болгарские солдаты вовсе не горели желанием убить всех мирных жителей, а наоборот, сочувствовали сербам всей душой из-за нищеты и разорений военного времени (The Accusations… 1919).
Д. Мишев, известный и авторитетный болгарский историк и публицист, в письме, адресованном премьер-министру Франции и председателю Парижской мирной конференции Ж. Клемансо, а также делегациям стран Антанты и председателю Международного комитета Красного Креста, отмечает, что положение сербских пленных в Болгарии было в целом благополучное, о чем свидетельствует доклад делегации Международного комитета Красного Креста, посетившей Болгарию в апреле – мае 1917 г., в котором утверждается, что во многих лагерях для пленных установились дружеские отношения между пленными сербами и их охранниками – болгарами. Также он отмечал, что болгарский народ делал все возможное, чтобы облегчить страдания пленных и интернированных, пленные офицеры раз в месяц получали определенную сумму на личные расходы, а преступления были скорее исключением (Билярски 2012б).
Здесь надо упомянуть об отношении Сербии к болгарским пленным. Официальные сербские документы и некоторые свидетельства иностранцев показывают, что пленные, включая болгар, вплоть до конца войны содержались в нормальных условиях и получали хорошее питание. Уже в июле 1914 г. полковник Д. Стефанович приказал, чтобы военнопленным давали такую же еду, как и сербским солдатам, а раненых помещали в больницы, где врачи должны их лечить так же тщательно, как своих солдат (Bjelajac 2005). Международная комиссия по вопросам пленных, в которую входило по одному представителю из США, Испании и Швейцарии, сформированная по требованию Австро-Венгрии, обвинившей Сербию в плохом обращении с пленными, посетила Сербию в июне 1915 г. и подтвердила, что пленные из австро-венгерской армии действительно содержатся в нормальных условиях, насколько это возможно в разоренной войной и эпидемиями стране, особенно пленные славяне (чехи и южные славяне), а также пленные офицеры всех национальностей, несмотря на случаи массового убийства сербских пленных и мирных жителей австро-венгерскими офицерами. Существовало 12 лагерей для военнопленных, где было размещено 23,9 тыс. человек, и каждый комендант отвечал за соблюдение правил обращения с ними в своем лагере (Intermagazin 2014). Это значит, что сербское военное командование действительно приложило серьезные усилия по заботе о военнопленных. Французские офицеры сообщали, что сербы хорошо обращались и с болгарскими пленными. Когда пленные находились на Салоникском фронте, среди них распространились цинга и малярия; причиной этого были тяжелые климатические условия и отсутствие свежих фруктов и овощей. Сербское командование постаралось исправить ситуацию, специально выращивая овощи, и к осени 1917 г. ему удалось практически свести на нет эти болезни (Bjelajac 2005). Однако, по сообщению Д. Мишева, сразу после окончания войны произошли инциденты с массовым убийством болгарских пленных: всего он упомянул несколько вопиющих случаев, в ходе которых было убито или уморено голодом и непосильным трудом 1,3 тыс. человек (Билярски 2012а).
В целом гораздо более вероятной представляется болгарская цифра потерь среди сербских пленных и гражданских лиц в болгарских лагерях, чем цифра, представленная сербской комиссией. Тем более что обе круглые цифры (100 тыс. интернированных в Болгарию и 50 тыс. погибших) выглядят очень произвольно и публицистично. Если верить этим цифрам, то получается, что погибла ровно половина интернированных, что крайне маловероятно, особенно с учетом отмеченных выше фактов (международные свидетельства о хорошем обращении с пленными сербами и письма самих интернированных, подтверждающие это). Даже если предположить, что регистрация умерших в лагерях страдала серьезным недоучетом (что вполне возможно) и что в реальности речь может идти не о 5 тыс., а, допустим, об около 10 тыс. сербов, убитых или умерших от голода и болезней в болгарских лагерях или на пути к ним, все равно цифры, приведенные комиссией, оказываются неправдоподобно высокими, что является дополнительным аргументом в пользу ее очевидной пристрастности.
Вместе с тем одно из самых серьезных обвинений комиссии против Болгарии – в массовом и целенаправленном истреблении 3 тыс. представителей сербской элиты (торговцев, чиновников, адвокатов, а особенно учителей и священников) – представляется в целом обоснованным, хотя само число убитых, как и в других случаях, значительно завышено. Некоторый свет на судьбу сербской элиты может пролить информация, собранная М. Вылковым – молодым болгарским историком, объективно рассматривающим проблему военных преступлений болгарской армии в Первой мировой войне. В конце ноября 1918 г. в Болгарии при военном министерстве была создана следственная комиссия для расследования обвинений со стороны союзников и вынесения заключения относительно их обоснованности. Комиссия установила, что имеются достаточные доказательства убийства около 40 сербских священников во Враньском округе. Известна фамилия коменданта Враньского округа, ответственного за убийства священников и некоторых других мирных жителей, – это майор Илков. Также выяснилось, что были убиты 10 священников в Заечарском округе, которых собирались интернировать в Болгарию. В ходе рассмотрения обстоятельств их убийства стало известно, что они были расстреляны в соответствии с приказом главнокомандующего болгарской армией генерала Н. Жекова об уничтожении некоторых категорий сербской элиты, куда входят в том числе учителя и священники. Было установлено, что полученный приказ привел к тому, что некоторые офицеры, желавшие отомстить сербам за поражение во Второй Балканской войне, почувствовали свою безнаказанность и принялись истреблять сербскую элиту (Вълков 2016).
Однако, с другой стороны, в упомянутом документе-опровержении говорится, что целых 163 сербских священника были размещены в одном из лучших школьных зданий (The Accusations… 1919). Это означает, что далеко не вся сербская элита была уничтожена, а очень многим сохранили жизнь, хотя и отправили в изгнание. Это может говорить или о саботировании жестокого приказа болгарского Генерального штаба некоторыми болгарскими офицерами и чиновниками, или о каких-то других, в настоящее время точно не установленных обстоятельствах. Сам Н. Жеков оправдывался, что не отдавал такой приказ: тот был отдан от его имени генералом К. Жостовым без его ведома и согласия (Вълков 2016).
Что касается общего числа мирных жителей, погибших от рук болгарских военных вне лагерей, то этот вопрос остается открытым. Очевидно, что на совести болгарских военных лежит массовое убийство мирных сербов при подавлении Топлицкого восстания в марте 1917 г., что является крупнейшим эпизодом преступлений над сербами в болгарской оккупационной зоне. По данным комиссии, общее число убитых повстанцев и мирных жителей оценивается в 20 тыс. (из них подавляющее большинство – мирные жители, особенно женщины, дети и старики). Однако данные расследования, проведенного 20 депутатами сербской скупщины (парламента) на базе собранных статистических материалов, заявлений многочисленных свидетелей и самих участников восстания, показывают, что всего в ходе подавления восстания погибли 6,8 тыс. сербов, было разрушено 43,5 тыс. домов и других зданий (Гулић, Лукић 2019: 269). Возможно, именно эти данные ближе всего к истинному числу жертв. Оценка, выполненная самими сербами, красноречиво иллюстрирует, что комиссия сознательно преувеличивала количество сербских жертв и приводила самые высокие из имеющихся оценок, чтобы добиться определенных политических задач. Судя по достаточно большой интенсивности восстания, можно предположить, что примерно половину жертв составляли повстанцы, а остальную часть, то есть около 3 тыс., – мирные жители.
Представляют большой интерес и другие оценки из этого сербского доклада. Общее число интернированных (как военнопленных, так и особенно мирных жителей) в результате подавления Топлицкого восстания составило 31 тыс. человек, из них погибло по разным причинам 7,5 тыс. (Там же). Обращает на себя внимание то, что эти данные очень близки к официальным болгарским данным об общем числе всех интернированных сербов за время войны: 35 тыс., из них 5,5 тыс. погибших.
Здесь надо учитывать, что большинство всех интернированных из Сербии в Болгарию как раз составляли участники восстания и жители деревень в восставшем регионе. Это означает, во-первых, что даже официальное расследование сербской скупщины опровергает данные комиссии о якобы 50%-ной смертности в болгарских лагерях и дает гораздо более реалистичную цифру – 24 %, которая довольно близка и к официальным болгарским значениям (16 %), что косвенно указывает на достаточно высокую степень достоверности болгарских данных. Но надо учитывать, что в 1917–1918 гг. Болгария была истощена напряженной войной и находилась в очень тяжелом экономическом положении, в стране массово случалось недоедание и свирепствовала эпидемия испанки. Поэтому общий процент погибших среди всех интернированных за 1915–1918 гг. мог быть несколько меньше 24 % и составлять около 20 %. Все это подтверждает приведенную ранее приблизительную оценку около 10 тыс. погибших при интернировании по разным причинам (причем заметная их часть – не по вине болгарских властей и военных, а из-за общих тяжелых условий в стране). Общая численность интернированных сербов, скорее всего, могла находиться в пределах 40–50 тыс., что значительно ниже официальных цифр комиссии.
Интересно также, что в официальном сербском докладе утверждается, что за массовые репрессии по отношению к мирным жителям при подавлении восстания определенную долю вины несет сербский воевода К. Печанац, отправленный в регион военными властями, который убедил местных жителей восстать, обещая им, что очень скоро в помощь восстанию последует наступление союзных войск в направлении Юго-Восточной Сербии. Однако на самом деле обещанное наступление к тому времени уже не планировалось, и поэтому слабо вооруженные местные жители оказались беззащитны перед массовыми репрессиями болгарских войск (Гулић, Лукић 2019: 263–267). Комиссия же полностью перекладывает всю вину за произошедшие события на болгар.
Какой процент убитых мирных жителей в ходе подавления восстания составили женщины и дети, сказать невозможно, и для этого требуются дополнительные исследования.
Болгарский документ-опровержение утверждает, что некоторые болгарские офицеры, ответственные за преступления против сербов, к моменту составления документа (1919 г.) или были казнены, или же находились под следствием (The Accusations… 1919).
Что касается состава Межсоюзной комиссии, официально в нее входили бывший премьер-министр Сербии Л. Стоянович, француз А. Бонасье, британский генерал-лейтенант Х. Майн, министр П. Гаврилович, юрист С. Йованович. Фактически же сербское правительство для проведения полевого исследования назначило других лиц: офицера-добровольца в сербской армии американца Уильяма Драйтона, а также Косту Комануди – официально грека, а на самом деле видного сербского политика с греческими корнями, и Милета Новаковича, сына Стояна Новаковича (идеолога борьбы с болгарской идентичностью в Македонии). Единственным членом комиссии, который сам производил исследования на местности, был У. Драйтон. Первой фразой на сербском языке, которую он выучил, была «Я ненавижу болгар», что говорит о явной пристрастности его кураторов, направлявших его деятельность в нужное им русло. Поэтому результаты его расследований нельзя принимать на веру, тем более что оригинальные записи Драйтона до сих пор остаются недоступными для исследователей. Кроме того, были использованы материалы расследований другого иностранного добровольца в сербской армии – Рудольфа Арчиьбальда Райса, выпущенные в тесном взаимодействии с сербским Генштабом, а значит, в их беспристрастности есть большие сомнения (Митев 2010а). Анализируя подготовленный сербской делегацией фотоальбом, призванный послужить в качестве доказательства болгарских зверств, Л. Митев обнаруживает множество очевидных фальсификаций, что говорит о том, что Райс и Драйтон, на которых была возложена задача фотографировать следы преступлений, не смогли найти достаточный фактический материал для обвинения болгар в массовых зверствах (Он же 2010б). Итак, очевидно, что иностранные эксперты – члены этих комиссий ни в коей мере не могли быть беспристрастными и выполняли задания сербского правительства, а значит, не осуществляли главную ожидавшуюся от них функцию – контролировать деятельность своих сербских коллег с точки зрения объективности и нейтральности.
Также стоит остановиться на еще одном серьезном обвинении Межсоюзной комиссии против болгарских войск: они обвинялись в особо жестоких, прямо-таки зверских способах убийства сербского населения, прежде всего во время подавления восстания весной 1917 г. Что же касается обвинений болгар в особо серьезных зверствах, можно вначале привести аргумент болгарского академика Д. Мишева, который передает мнение американских протестантских миссионеров и учителей, побывавших во многих странах, в том числе и в Болгарии, и хорошо изучивших язык, менталитет, характер и особенности поведения множества народов. По словам миссионеров, такие качества национального характера, как спокойствие, бесконфликтность, трудолюбие (в условиях Балкан эти качества можно интерпретировать как явное предпочтение мирного созидательного труда завоевательным войнам) и толерантность к другим народам и религиям, были больше всего выражены именно у болгар (Mishev 1918). В этой связи постоянный акцент членов комиссии на «зверских убийствах мирных жителей болгарами» не может не настораживать. Подчеркнем особо, что упомянутые национальные качества не являются постоянными и могут со временем изменяться как в лучшую, так и в худшую сторону (последнее как раз и произошло в случае болгар к началу Второй мировой войны, о чем будет сказано позднее).
В
письме сербскому премьеру Н. Пашичу, защищая свою страну от клеветы, Д. Мишев
приводит примеры сочувствия болгарских властей чужому горю, когда Болгария
приняла тысячи армянских беженцев, спасавшихся от погромов, вопреки протестам
Турции (их отказались принять Сербия, Румыния и Греция, чтобы не испортить
отношения с Турцией), а также сотни семей восставших румынских крестьян,
спасавшихся от террора собственной армии, которая убила тысячи людей и сожгла целые
деревни. Болгары в 1883 г. приютили также будущего премьера Н. Пашича и его соратников, скрывавшихся
от сербских властей. Однако Пашич впоследствии забыл об оказанной ему помощи и,
по утверждению Д. Мишева, заплатил огромные деньги, чтобы распространить клевету против болгар
в европейских СМИ (то есть фактически отнял большие суммы у своих граждан,
отчаянно нуждавшихся в финансовой помощи после опустошительной войны, потратив
их на распространение клеветы против целого народа, чьи представители спасли
его самого от репрессий). Кроме того, Д. Мишев сообщает, что болгарская
администрация единственная среди стран – участниц Первой мировой войны
регулярно разрешала своим пленным
и интернированным (грекам и сербам) на некоторое время вернуться в свои дома,
чтобы увидеться с родными и привести в порядок свое хозяйство. Летом – осенью
1917 г. тысячи интернированных отпустили на свободу, а многие сербы старшего
возраста назначались болгарами на административные должности. Существуют списки тех пленных и интернированных, кому давали
отпуска, и тех, кто был освобожден. Это
является опровержением обвинения Н. Пашича, что в Болгарии не нашелся ни один человек, который бы защитил
этих несчастных. Многие простые болгары помогли сербским интернированным и военнопленным
пережить тяготы войны. Вместе с тем Д. Мишев признал некоторые факты
преступлений над сербами, но говорил, что они не были организованы болгарской
властью, а являются инициативой отдельных офицеров и чиновников, и что такие
инциденты происходят всегда во всех войнах. А как только стало известно о
фактах репрессий и преступлений над сербами, болгарское общество сразу
потребовало их прекращения и наказания не только преступников, но и тех, кто
своим молчанием и бездействием допустил преступления (Билярски 2012а).
Кроме того, говоря о болгарских зверствах, нужно учесть, что в Первой мировой войне произошло документально подтвержденное массовое убийство сербскими военными своих же сербов, которые были включены Межсоюзной комиссией в число жертв, убитых болгарами. Так, Д. Мишев в письме сербскому премьеру Н. Пашичу сообщает, что по приказу высших офицеров, состоявших в тайной организации «Черная рука» и до этого, в 1903 г., жестоко убивших сербскую королевскую чету Обреновичей, сербскими полувоенными отрядами весной 1917 г. были убиты сотни, если не тысячи мирных сербов (включая женщин, детей, стариков) и изнасиловано большое количество сербских женщин, причем убийства часто были осуществлены весьма жестоким способом, что, впрочем, свойственно всем иррегулярным формированиям. Сделано это было с целью заставить сербов восстать против болгарской оккупационной администрации. Убийства осуществлялись в Топлицком районе – том самом, где произошло знаменитое Топлицкое восстание. По словам Д. Мишева, существуют доказательства в виде писем лидеров полувоенных отрядов, которые обвиняли друг друга в данных преступлениях, отрывки из которых он приложил к своему письму для сербского премьера (Билярски 2012а). На эти же сербские документы ссылаются и авторы опровержения 1919 г., одновременно сообщая, что лидеры сербских формирований обвиняли друг друга также в изнасилованиях и подчеркивали, что болгарская армия изнасилований не совершала (The Accusations… 1919). Это признание, сделанное самими сербскими военными, окончательно развеивает миф о «массовых болгарских изнасилованиях» в регионе. Вина за эти убийства и изнасилования впоследствии были возложены Межсоюзной комиссией на болгарские войска, в результате чего болгары были несправедливо обвинены в чудовищных зверствах.
Стоит подчеркнуть, что сербские радикальные движения не одиноки в стремлении убивать свой народ ради политических задач. Этим занимались, в частности, хорватские усташи, в чьих лагерях смерти закончили свою жизнь 5,4 тыс. хорватов-антифашистов (Slobodna Dalmacija 2023).
Таким образом, на основе проанализированных фактов можно с уверенностью сказать, что задача, теоретически ожидавшаяся от комиссии (объективное установление истинных масштабов сербских страданий от действий болгарских войск), не была выполнена из-за особенностей ее состава. В качестве иностранных членов комиссии были назначены или статисты, вообще не принимавшие участия в исследованиях, или иностранные добровольцы в сербской армии, а входившие в комиссию сербы были высокими чиновниками или ярыми националистами и, значит, также были далеки от беспристрастности. Приведенные Межсоюзной комиссией данные о числе сербских жертв очень сильно преувеличены, а многие обвинения против конкретных болгарских офицеров и священников и вовсе вымышлены. Единственные относительно верные обвинения, основанные на фактах, – массовое истребление сербской элиты и массовые убийства сербских мирных жителей в ходе подавления восстания весной 1917 г., но и эти события в разы преувеличены и к тому же дополнены вымышленными деталями. Все это подтверждает опасения, что деятельность комиссии была основана на политическом заказе с целью дискредитации болгарской власти и армии перед европейским общественным мнением, чтобы получить от Болгарии как от потерпевшей поражение стороны как можно больше территорий и репарационных выплат, что и было осуществлено с помощью влиятельных союзников Сербии – Франции и Великобритании. В соответствии с этим заказом реальные преступления болгар (не выходившие, впрочем, за рамки типичных преступных действий в ходе межэтнических войн на Балканах) очень серьезно преувеличивались, и даже выдумывались несуществующие преступления.
Необходимо отметить, что не только Сербия, но и Греция также создала свою Межсоюзную комиссию по рассмотрению военных преступлений болгар против греков. Комиссия, состоявшая из представителей стран Антанты (назначенных, впрочем, самими же греческими властями), в своем докладе сообщила, что установила особо высокое число убитых и умерших от голода за два года болгарской оккупации: греческое население региона сократилось на 70 тыс. человек, в том числе 30 тыс. умерли от болезней и голода, искусственно вызванного действиями болгарской администрации (Poulton 1995: 77). Болгары в своем опровержении отметили, что множество указанных комиссией деревень, которые были якобы разорены болгарами, на самом деле были разрушены турками и греками в 1912–1913 гг. В ответ на обвинения в массовых изнасилованиях гречанок, основанные просто на предположении, что если болгарская армия массово убивала и грабила греков, значит, она, вне всякого сомнения, совершила также и массовые изнасилования (правда, конкретных случаев изнасилований было приведено очень мало), болгары привели цитаты из отчета по-настоящему нейтральной Специальной международной комиссии 1914 г. о массовых изнасилованиях болгарок греческими войсками летом 1913 г. Число интернированных греков болгары оценили в 13 тыс. человек, из них 1,8 тыс. умерли от болезней. Кроме того, авторы опровержения отмечали, что болгарские власти вовсе не организовали искусственный голод, а наоборот, осуществляли бесплатную раздачу еды для 60 тыс. жителей Северной Греции без различия национальностей. Болгарский Красный Крест распределил среди голодающего греческого населения 100 тонн кукурузы, получив в ответ благодарственные письма. Однако греческие чиновники часто воровали переданную болгарским правительством еду, предназначенную для голодающих, на что жаловались мусульманское духовенство и известные граждане Драмского округа. В целом в документе отмечается, что, пользуясь полной дипломатической изоляцией Болгарии, Греция и Сербия активно распространяли в странах Антанты клевету против болгарского государства и армии, на что у изолированной Болгарии не было возможности ответить (The Accusations… 1919). В целом можно сделать вывод, что против Болгарии в Первой мировой войне греческими и сербскими властями действительно была развернута пропагандистская кампания по одной и той же схеме, резко преувеличивавшая реальное количество преступлений с целью заручиться поддержкой в европейских столицах, чтобы присоединить как можно больше территорий после окончания войны.
Пропаганда
против Болгарии в Сербии продолжилась и после окончания войны и получения
округов с городами Цариброд (ныне Димитровград),
Босилеград и Струмица. Сразу после войны премьер-министр Н. Пашич заявлял, что
болгарские преступления значительно превосходят австро-венгерские по
масштабам и по жестокости (Ристић 2017: 618), хотя это очень далеко от истины.
Ведь три сербских округа, оккупированные болгарами (Нишский, Пирот-ский и
Топлицкий, в котором, по утверждению сербских властей и Межсоюзной комиссии, произошли наиболее массовые убийства), по проценту
совокупных демографических потерь (разница между ожидаемой численностью
населения при довоенном приросте и реальной численностью после войны) занимают
вовсе не первые места (как могло ожидаться), а три последних места (если не
считать Белград) среди 17 регионов Сербии
(без Воеводины). Еще
в четырех оккупированных болгарами
округах демографические потери (25,6–29,2 %) находятся на том же уровне,
что и в среднем по Сербии – 28,2 % (Врућинић 2007: 151). Но эти факты не
помешали отдельным сербским депутатам, особенно из юго-восточной части страны,
крайне негативно высказываться обо всем болгарском народе. Депутат Димитрие Машич, который провел часть войны в болгарском плену и
пережил там, по его словам, избиения и издевательства, назвал болгар дикими
зверями и говорил, что не найдется пера, которое могло бы описать их
преступления. Т. Попович, депутат Радикальной партии из Юго-Восточной Сербии,
сказал, что необходимо построить «китайскую
стену» между Сербией и Болгарией, и назвал болгарского посла в Белграде
Тодорова представителем «варварского племени и дикого государства». Писатель и
публицист Драгиша Васич говорил, что сербский народ воплощает в себе
лучшие черты человеческого характера (героизм, благородство, умение прощать), а болгарский народ – худшие
(коварство, наглость, неблагодарность). Газета «Политика» утверждала,
что болгарские преступления против сербов намного более жестоки, чем худшие
преступления средневековых варваров, так что за все совершенные болгарами
зверства даже истребление всех болгар было бы недостаточным наказанием (Ристић
2017).
В такой антиболгарской атмосфере продолжались репрессивные меры против македонских болгар, которым отказывалось в праве на национальное самосознание и национальную церковь, запрещалось получать образование и издавать книги на родном языке; наиболее активных болгар сажали в тюрьмы, а часто и убивали. По данным македонского историка Димитра Галева, собранных на основе документов и воспоминаний пожилых македонцев, некоторые сербские полицейские совершали убийства крестьян, иногда жестоким способом, а также насиловали женщин во многих македонских деревнях, чьих жителей подозревали в сотрудничестве с повстанцами проболгарской организации ВМРО. Полиция осаждала деревню, а затем принималась за убийства, уводила скот, забирала ценные вещи. Были отдельные случаи убийств женщин. Отдельные сербские полицейские, по сообщению местных жителей, настолько плохо с ними обращались (жестоко избивали, воровали все, что им нравилось), что их поведение было хуже, чем у турецких жандармов начала века. В 1923 г. отряд ВМРО под командованием Ивана Бырло убил 23 сербских колониста вместе с членами их семей в деревне Кадрифаково в Штипском округе. В ответ на это глава округа Д. Маткович приказал убить 28 мирных жителей-мужчин, не состоявших в отрядах ВМРО, в селе Гарван, в том числе троих детей от 13 до 18 лет. Маткович собирался также убить 19 жителей соседней деревни Брест, предварительно составив список тех мужчин, кто должен быть убит. Однако вмешались находившиеся рядом два хорватских офицера и запретили ему убивать невиновных крестьян, в связи с чем эмигрантские организации македонских болгар выразили благодарность самому популярному хорватскому политику Степану Радичу (Галев 1991). Этот пример опровергает рассмотренное выше представление о якобы патологической жестокости всех хорватских офицеров, а также иллюстрирует межнациональную солидарность болгар и хорватов в королевской Югославии.
В Греции, по всей видимости, репрессии и убийства болгар были гораздо более масштабными, чем в Югославии. Западноевропейские государства, особенно Великобритания и Франция, должны были получить от своих дипломатов данные о репрессиях в отношении македонских болгар и официально потребовать от Греции и Югославии их немедленного прекращения. Однако этого не было сделано, так как Югославия и Греция пользовались симпатиями в западных столицах, а Болгария была очернена из-за деятельности греческой и сербской дипломатии в Первой мировой войне. Отдельные западные дипломаты, например француз Анри Поззи, старались донести правду о страданиях болгар, но не могли повлиять на позицию властей и большей части западных СМИ, которые в начале Второй мировой войны активно приступили к антиболгарской пропаганде, обвиняя болгар во враждебности к соседним народам и постоянном стремлении воровать чужие земли и приводя наряду с реальными их преступлениями также вымышленные. Депутат британского парламента Алан Грэм в одной газете написал о коллективной вине «огромного большинства» болгарского народа за «неописуемые зверства» над греками и сербами. Югославские власти подогревали такие настроения, требуя, чтобы в американских СМИ, в том числе по радио, как можно шире распространялась информация о болгарских «зверствах» в «Южной Сербии», то есть Македонии, где болгары якобы «начали массово убивать сербских священников и учительниц». Такой подход привел к тому, что США и Великобритания, не разобравшись в ситуации, подвергли столицу Болгарии Софию в 1943–1944 гг. мощным бомбежкам, от которых больше всего пострадали отнюдь не болгарские войска, а жилые кварталы и общественные здания центральной части столицы (Томанић 2022).
К сожалению, негативное влияние Межсоюзной комиссии до сих пор ощущается в значительной части сербских научных работ, посвященных Болгарии и Македонии. В последние годы достаточно часто в сербских работах можно наблюдать использование «языка ненависти» в отношении болгарских войск, с примерами болгарских преступлений, взятыми из доклада комиссии (а значит, весьма сомнительными и нуждающимися в проверке). При этом поведение сербской стороны по отношению к болгарам идеализируется, в результате чего создается опасный стереотип о борьбе «абсолютного добра» с «абсолютным злом» и тем самым сеется ненависть между двумя очень близкими народами. Так, в работе Марии Джорич, посвященной болгарской оккупации Враньского округа в Первой мировой войне, говорится, что болгарские преступления в округе «превосходят все [мыслимые] пределы жестокости» (Ђорић 2015: 194). В диссертации Бориса Томанича, посвященной болгарской оккупации части Югославии во Второй мировой войне, период 1941–1944 гг. освещается в целом объективно. Приводятся даже отдельные примеры страдания болгарских мирных жителей от югославских бомбардировок 1941 г. и примеры положительного поведения некоторых болгарских военных. Рассматривая этот период, автор провел тщательные исследования в сербских и болгарских архивах. Однако в той части, где говорится о болгарской оккупации в Первой мировой войне, приводятся сильно преувеличенные цифры убитых сербов и необоснованные обвинения, напрямую взятые из доклада комиссии (Томанић 2022: 4–8). Все эти ученые и публицисты также считают Македонию исконно сербской землей, тем самым отрицая репрессии сербских военных и полицейских в ней. Называют Македонию старой сербской землей и одобряют ее завоевание («освобождение») в 1912 г. также многие высокорелигиозные и одновременно прозападные сербы, которые часто идеализируют историю сербской монархии как символа сербской политико-религиозной традиции. Из-за своей прозападной позиции они готовы признать независимость Косово, но в то же время открыто предъявляют претензии на Македонию. Известный прозападный историк, политик и дипломат, христианский демократ Милан Протич называет Македонию неразрывной частью средневековой Сербии с сотнями сербских церквей и монастырей, которая является такой же святой сербской землей, как и Косово. По его словам, Македония не должна была иметь в составе Сербии никакой автономии, но ее искусственно и «незаконно» отделили от Сербии коммунисты (Protić 2022). Глубокая ошибочность таких утверждений ясна любому, имеющему представление о социально-историческом развитии Македонии на основе научных данных, а не пропаганды. Если бы М. Протич и другие активные отрицатели болгарского происхождения македонцев имели представление об основных словах в македонском и болгарском языках (в которых до сих пор почти полностью совпадают такие важнейшие слои лексики, как местоимения, основные прилагательные, названия диких животных, диких птиц и полевых растений, а в сербском многие из этих слов резко отличаются от македонских/болгарских), они бы уже не могли с такой уверенностью утверждать, что Македония – исконно сербская земля. Интересно, что Дража Михайлович, командир отрядов югославских монархистов (или югославских четников) во Второй мировой войне, ориентировавшийся на США и Англию, столь почитаемый М. Протичем и другими прозападными сербами, согласно сербским архивным документам фактически признавал, что в большинстве регионов Македонии живут болгары, и в ноябре 1941 г. давал указания своим войскам осуществлять в этих регионах диверсии на железнодорожных путях с целью саботировать снабжение и транспортировку нацистских войск, так как в этом случае можно было не опасаться репрессий и убийств, которые немецкие и болгарские военные и полицейские предпринимали в населенных сербами областях в качестве мести за подобные диверсии (Симендић 2016: 24–25). Существенное исключение представляют собой работы историка Владана Йовановича, который признает проживание в Македонии до 1945 г. значительного количества болгар и болгарофилов и акцентирует внимание на наиболее вопиющих фактах безнаказанных репрессий сербских солдат и полицейских над ними (Jovanović 2013). Отметим, что и в некоторых болгарских работах присутствует «язык ненависти» по отношению к сербам: так, в одной работе историка Янко Гочева сербы были названы «хищным и варварским» народом (Гочев 2011), что абсолютно недопустимо.
Директор белградского Музея жертв геноцида Деян Ристич, выступая на мероприятии юридического факультета Белградского университета, недавно заявил, что болгарские преступления в отношении сербов в Первой мировой войне являются «одними из наихудших» в сербской истории и содержат в себе элементы геноцида, прямо ссылаясь на Межсоюзную комиссию (YouTube 2023).
В краткой статье молодого сербского историка Немани Девича можно найти множество антиболгарских стереотипов, идентичных пропагандистским штампам комиссии. Он безапелляционно называет Вардарскую Македонию Южной Сербией и утверждает, что коммунисты насильственно сменили идентичность местного населения с сербской на македонскую, изгнали Сербскую православную церковь с территории Народной Республики Македония и представили в негативном свете борьбу сербских четников начала ХХ в. по ее завоеванию (с точки зрения Девича – «освобождению»). Никаких доказательств о якобы преобладании сербов в Македонии до коммунистов автор не приводит (Девић 2023а). Хотя в другой своей работе он совершенно правильно выступает против необоснованного завышения числа жертв Второй мировой войны на территории Югославии, приводя объективные оценки сербских жертв того периода: от 487 до 530 тыс. человек (Он же 2023б), тем не менее в статье, посвященной Македонии, он очевидно резко преувеличивает преступления болгар, приводя не подкрепленное ссылками утверждение, что якобы болгарские оккупанты убили в Македонии и Юго-Восточной Сербии в 1915–1918 гг. такое же количество сербских священников, как и хорватские усташи на территории НГХ в 1941–1945 гг. (Он же 2023а). Но такое отождествление регулярных болгарских войск, обладавших четкой дисциплиной и организацией, с усташами (иррегулярными формированиями, фактически бандами) в плане жестокости представляется совершенно неоправданным.
Даже если предположить, что авторами антиболгарских текстов в значительной части являются потомки жертв болгарских преступлений, что справедливо в случае М. Джорич, у которой болгары убили предка-священника (YouTube 2017), на ошибки и преувеличения в этих текстах могли бы ответить те сербские ученые и публицисты, у которых в семье никто не пострадал от рук болгар, и предложить более умеренную и менее одностороннюю трактовку трагичных событий прошлого. Но этого почти не происходит, за исключением усилий немногих специалистов, особенно историка Горана Николича, последовательно борющегося против проявлений антиболгаризма в сербской науке.
Учитывая огромное уважение и любовь большинства сербов к России, изменению господствующего антиболгарского дискурса в Сербии в сторону более объективного теоретически могла бы способствовать российская наука, к доводам которой сербы обязательно прислушались бы. Но пока этого не происходит из-за небольшого интереса российских славистов к судьбе македонских болгар. Напротив, некоторые отечественные ученые сами перенимают сильно преувеличенные цифры убитых болгарами сербов от сербских националистов и под их влиянием называют исторически болгарские земли сербскими. Ю. В. Колиненко в своей диссертации справедливо упрекает отдельных сербских националистов за очернение поведения болгар на войне, возражая их псевдонаучной и оскорбительной версии, что тюркская кровь якобы постоянно толкает болгар на жестокие преступления, и отмечая, что зверства в Первой и Второй Балканских войнах совершали как болгары, так и сербы. Однако она принимает точку зрения сербских националистов на Македонию, назвав ее исторически сербской землей и даже символом и колыбелью сербства, и приводит сильно завышенные цифры убитых болгарами сербских священников, не упомянув при этом ни одного случая убийства болгарских священников в Македонии сербскими формированиями. Следует отметить, что Колиненко опирается исключительно на сербские источники, игнорируя болгарские (см.: Колиненко 2016). Н. В. Бондарев в своей статье высказал желание о сближении сербской и болгарской культур путем ознакомления сербов, 70 лет отгораживавшихся от всего болгарского, с болгарской музыкой и болгарской кухней, что можно только приветствовать, однако не признал Македонию исторически болгарской землей, написав, что болгары ее «оккупировали» в Первой мировой войне, а также привел резко (по нашей оценке – в три раза) завышенное число сербских жертв, пострадавших от рук болгар, – на этот раз в сербском селе Бойник (якобы 700 мирных жителей), назвав это село самым пострадавшим в Сербии во Второй мировой войне. Вероятно, источником информации для такой огромной цифры послужил один из сербских националистических сайтов. При этом ни одного факта преступлений сербских войск против болгар (пленных или мирных жителей) приведено не было (см.: Бондарев 2022). Такое транслирование ничем не обоснованных обвинений против болгар, выдвинутых сербскими националистами, без их тщательной проверки, при одновременной идеализации поведения сербской стороны резко искажает картину реальных межнациональных процессов на Балканах.
Переходя к теме поведения болгар во Второй мировой войне в оккупированной части Сербии в связи с событиями в селе Бойник, нужно привести свидетельство известного и авторитетного митрополита Бориса Разумова, который родился и вырос в Македонии (Битольский округ), но проживал весь межвоенный период в Болгарии. Б. Разумов в своей книге «Кризис в нашей школе», написанной в 1928 г., утверждает, что нравы болгарского общества за данный период резко изменились в сторону роста проявлений грубости и жестокости, что свидетельствовало о глубоком моральном кризисе и массово распространившемся безразличии к моральным ценностям. Он, в частности, перечисляет громкие случаи убийств учениками-подростками своих учителей и друг друга, случай организации студентом разбойничьей банды, ответственной за ограбления и убийства, а также приводит в качестве яркого примера падения нравов чудовищный теракт радикального крыла болгарских коммунистов в соборе Святой Недели в Софии в 1923 г. с целью уничтожения болгарской политической элиты, в котором погибли сотни людей. Главной причиной катастрофического состояния нравственного климата в стране Б. Разумов называет серьезные ошибки и недочеты в образовательной системе: болгарская школа только лишь дает знания, но полностью пренебрегает воспитанием учащихся. При этом учителя часто находятся под влиянием радикально-материалистических учений, пропагандируя среди учеников вседозволенность. В результате у множества молодых людей пропали не только чувство нравственности, но и национальной ответственности и патриотизма, что и привело к взрывному росту преступности среди подростков и молодежи (см.: Неврокопски 2019: 85–119).
Соответственно, во Второй мировой войне от болгарских войск можно было бы ожидать преступлений значительно большего масштаба и большей жестокости, чем в предыдущих войнах. И действительно, в оккупированной болгарами части Сербии во многих деревнях были совершены массовые убийства десятков крестьян в качестве мести за предыдущие убийства или ранения партизанами или четниками всего нескольких болгарских военных. Очень многие крестьяне никоим образом не сотрудничали с партизанами или четниками, а были убиты исключительно из мести или устрашения. Наиболее массовое убийство произошло в селе Бойник 17 февраля 1942 г., где в качестве мести за убитого болгарского офицера и из-за отказа жителей выдать виновных было сожжено все село и убиты все его жители, которых оккупанты смогли захватить. Число жертв, по оценкам, приводящимся в сербских работах, составляет 400–600 мирных жителей, хотя нам представляются более обоснованными осторожные оценки историка Х. Ракича, родившегося и работавшего в Лесковацком округе, согласно которым было убито 235 мирных жителей, из них большинство – женщины и дети. По данным историка, 129 человек спаслись от расстрела. По некоторым сведениям, в убийстве болгарского офицера участвовали не местные партизаны, которые осознавали всю опасность такого рокового шага, а партизаны, пришедшие из другого региона, что может говорить о чьей-то сознательной провокации и желании вызвать жестокую месть болгар местным жителям. Убийства женщин и детей также произошли в селе Масурица в августе и сентябре 1943 г. Там было убито 67 человек, из них до 20 женщин и несколько детей; многие были убиты особо жестоким способом. В селе Несвырта с мая по сентябрь 1944 г. было убито более 20 человек. Среди убитых большинство было женщинами и детьми; убийства, как и в Масурице, были совершены особо жестоким способом. Подобные преступления имели место и в некоторых других местах. В отдельных случаях оккупанты зверским способом убивали всех членов семей партизан. Часто при акциях борьбы против партизан и их сторонников болгарские солдаты насиловали женщин в деревнях. Очень много домов партизан и им сочувствующих было сожжено, вещи разграблены, а скот угнан в Болгарию. Причинами подобной жестокости можно назвать как резкое ухудшение морального климата в этой стране, так и сотрудничество с немецкими оккупационными войсками, зачастую подталкивавшими болгар к преступлениям (так, иногда они совершались вместе болгарскими и немецкими отрядами, а пленные сербские мужчины угонялись на работу в Германию), а также приверженность некоторой части болгарских офицеров нацистской идеологии под влиянием немцев (Томанић 2022: 233–300).
В оккупированной болгарами Северной Греции также были введены репрессивные меры: все греческие епископы и многие священники покинули регион, грекам было запрещено заниматься предпринимательством и торговлей, болгары иногда конфисковывали значительную часть урожая у крестьян, что приводило к голоду. При подавлении Драмского восстания в сентябре 1941 г. погибли как минимум 3 тыс. греков (в основном мирные жители – мужчины), в том числе в деревне Доксато – 350 мужчин и подростков, в основном не принимавших участие в восстании, а в деревне Користи – 135 (Kotzageorgi-Zymari, Hadjianastassiou 2000).
Что касается Македонии, в ней из-за лояльности большинства славянского населения к болгарам при одновременном выселении всех сербских колонистов в Сербию было несравнимо меньше случаев убийства мирных жителей, однако наблюдались другие формы жестокого поведения. К. Цырнушанов, с одной стороны, приводит случаи массовой радости, переходящей в настоящую эйфорию, при встрече болгарских войск весной 1941 г. в городах с преобладанием болгар (Прилеп, Штип, Охрид и др.), которая лишь немногим уступала подобной эйфории в Первую мировую. Доклады высокопоставленных деятелей югославской Компартии, работавших в Македонии, также подтверждают наличие огромного числа болгарофилов и встречу болгарской армии с цветами. С другой стороны, он же приводит случай ареста 300 жителей самого лояльного к Болгарии города Прилеп в октябре 1941 г. по подозрению в сотрудничестве с партизанами-коммунистами, убившими одного болгарского полицейского в городе. Задержание происходило чрезвычайно грубым образом, а многие из арестованных были жестоко избиты и ограблены. Позже выяснилось, что все они были невиновны. Местные болгары были встревожены столь грубым отношением болгарских войск, радикально отличавшимся от их поведения в Первую мировую, когда войска в основном разместились в домах жителей города и между ними были установлены тесные дружеские отношения. К. Цырнушанов, работавший тогда школьным инспектором в Прилепском округе, составил доклад для болгарского министра просвещения, приведя рассказы очевидцев о жестоком поведении войск. Доверие жителей Прилепа к болгарской армии было восстановлено только в конце 1943 г., после прибытия нового командира гарнизона, приверженного идее укрепить проболгарскую направленность в Македонии (Църнушанов 1996: 413–439). Кроме того, в болгарских тюрьмах и трудовых лагерях в целом были плохие условия жизни, совершенно недостаточная еда, и к тому же постоянно применялись пытки. В немецкие лагеря смерти были депортированы все евреи за пределами «старых» территорий Болгарии (Македония, Северная Греция и Пирот): болгарские войска насильственно забирали их из домов и увозили во временные пункты сбора, откуда они в переполненных вагонах отправлялись в Германию на верную смерть (Томанић 2022).
Однако жестокость болгар не следует преувеличивать. Так, если посмотреть на процент убитых женщин и детей в Сербии, то из общего количества в 10–13 тыс. убитых сербов (преимущественно пленные и мирные жители [Ibid.: 228]), женщины и дети до 16 лет, по нашим приблизительным оценкам, составляют около 3 %. В большинстве случаев болгары в сербских и греческих деревнях убивали только мужчин боевого возраста. В то время как при агрессии С. Милошевича в отношении Хорватии доля погибших женщин и детей среди всех убитых мирных хорватов составляла 49 %. Кроме того, болгары, в отличие от немецких нацистов, англо-американских ВВС и позднее армии Милошевича, не атаковали города и не разрушали бомбами и гранатами городские кварталы, что существенно снижало число невинных жертв.
В некоторых случаях болгарская гражданская администрация старалась установить терпимый для населения режим, прежде всего в городе Пирот и Пиротском округе, где заметная часть жителей всех социальных слоев была проболгарски настроена и добровольно вступала в контакт с болгарской администрацией. Г. Николич на основе архивных документов и воспоминаний известных жителей Пирота разоблачает пропагандистские мифы части югославской коммунистической историографии, что якобы болгары штрафовали за употребление сербских слов и сожгли все сербские книги в домах жителей Пирота. Такие случаи давления, как и некоторые другие, были во время Первой мировой войны, однако в течение Второй мировой болгарские оккупационные власти Пирота вели себя заметно мягче и не прибегали к насильственным методам до появления вооруженных сербских отрядов в округе в 1943 г. (Николић 2018: 13–17). Несмотря на трагедию македонских евреев, царь Борис в конечном счете отказался выдать Германии евреев – граждан Болгарии, проживавших в ее довоенных границах. Болгарский оккупационный корпус также отказался расстреливать 1084 сербских пленных, несмотря на требования немецкого командования (Тома-нић 2022: 216).
Таким образом, можно сделать вывод, что, несмотря на массовые жестокие преступления, которые навлекли позор на болгарскую армию, даже во время Второй мировой войны в Болгарии остались определенные следы прежней толерантности, и уровень болгарских преступлений (как по количеству убитых, так и по степени жестокости) был далеко не самым высоким среди других стран «оси». Более того, болгарские офицеры – военные преступники не смогли избежать ответственности: они были осуждены, расстреляны (как полковник Х. Стоянов, уничтоживший Бойник[5]) или приговорены к длительным срокам заключения в Болгарии, или же были выданы Югославии и заключены в тюрьму или расстреляны там. К тому же первыми в апрельском конфликте 1941 г. пострадали именно болгарские мирные жители в результате налетов югославской авиации на Софию и особенно на жилые кварталы центральной части города Кюстендил, в котором погибли, по болгарским данным, 58 мирных жителей, включая 22 ребенка (Димитров 2022). Но все же болгарские власти были обязаны сделать все возможное, чтобы предотвратить такие массовые жестокие преступления, какие имели место, например, в селах Масурица и особенно Бойник. Эти случаи, хоть и преувеличиваются сербскими националистами, сами по себе свидетельствуют о глубине морального падения отдельных болгарских воинских подразделений, которые в занятых ими областях Бойник и Црна-Трава приближались к немецким нацистам и хорватским усташам по жестокости и по проценту убитых (см.: Врућинић 2007: 161).
Кроме того, совершенно неадекватной и необоснованной представляется бесконтрольная месть македонским болгарам со стороны югославских (прежде всего македонских) партизан, совершенная под руководством генерала ЮНА черногорца С. Вукмановича-Темпо. В послевоенной Македонии, по данным К. Цырнушанова, были убиты несколько тысяч активных болгар, в подавляющем большинстве – невиновных. Очень многие были казнены без судебных процедур. Массовые убийства активных болгарских деятелей без суда и следствия произошли в большинстве крупных городов: в Велесе, Куманово, Прилепе были убиты примерно по 50 человек. Среди убитых деятелей болгарского движения можно назвать Д. Чкатрова и Д. Гюзелова, мэра Скопье в период болгарского управления 1941–1944 гг. С. Китинчева, мэра Охрида в тот же период И. Коцарева и др. Обычные люди, ощущавшие себя болгарами, впоследствии были ассимилированы в македонскую нацию, к которой принадлежали правящие партизаны (в отличие от большинства македонских интеллектуалов, которые исторически были болгарами и патриотами Болгарии, немногочисленные до 1944 г. интеллектуалы с македонскими национальными чувствами всегда ориентировались на союз с Сербией). Легче всего получилось оформить македонские национальные чувства у слабо образованных крестьян без ясной национальной идентичности. Для обеспечения лояльности Югославии македонцев активно сближали с Сербией, в том числе путем массового переселения десятков тысяч сербов в республику, и одновременно отдаляли от Болгарии. Открытые политические симпатии к Болгарии наказывались тюремным заключением; через тюрьмы прошли десятки тысяч людей. Характерно, что при этом некоторые известные сербы, совершавшие преступления против македонских болгар до войны, например чиновник королевской Югославии Жика Лазич, а также Д. Маткович, так и не понесли наказания (Църнушанов 1992а). Все это привело к радикальному изменению мировосприятия и национальной идентичности македонских славян, которое сохраняется до сих пор. Македонцы в большинстве своем считают Сербию самым дружественным государством, находятся под глубоким влиянием сербской культуры, телевидения, эстрады, хорошо знают сербский язык, у большинства есть в Сербии родственники и друзья. Старшее поколение македонцев ностальгирует по Югославии. А к Болгарии, в отличие от своих предков, многие относятся очень негативно. В республике до сегодняшнего дня широко распространены оскорбления, а иногда и угрозы по отношению к немногочисленным оставшимся болгарам, на которые в основном не реагируют местные политики и правозащитники, а также оскорбления Болгарии как государства (см. об этом: Станков 2022).
Все эти репрессии ясно говорят о том, что присоединение Македонии к Югославии осуществлялось вопреки воле большинства населения, в отличие от ситуации с сербами, хорватами, черногорцами и боснийскими мусульманами, очень значительная часть которых добровольно воевала за восстановление Югославии в той или иной форме. Югославия в 1944 г., овладев Македонией, фактически завоевала чужую (исторически болгарскую) землю, искусственно насаждая там югославскую (то есть полностью просербскую и антиболгарскую) политическую идентичность путем массовых репрессий, пропаганды и фальсификации истории. Поэтому политический режим в социалистической Македонии был несравнимо более жестоким и репрессивным, чем в других югославских республиках, что типично для многих других насильственно оккупированных территорий в мировой истории. Так было и во времена королевской Югославии, с тем отличием, что если при югославских королях Македония была обречена на прозябание и крайне низкий уровень жизни, образования и здравоохранения, то в коммунистической Югославии широким массам македонцев был обеспечен постоянный рост уровня жизни и потребления, а также возможность развивать свой фольклор и, с некоторыми оговорками, свой язык, но с условием не проявлять открыто свои проболгарские чувства. Такая хитрая и расчетливая политика облегчила и ускорила ассимиляцию оставшихся в республике болгар (см.: Ходунов 2017: 311–314).
Утверждение о завоевании чужой земли доказывается также фактом наличия подпольного коммунистического движения за отделение Македонии от Югославии в первые послевоенные годы, которое не отличалось от югославской компартии по идеологии, но возглавлялось людьми с ярко выраженными проболгарскими взглядами, боровшимися как против нацистов, так и против партизан. В частности, коммунист Йордан Малчев считал, что югославские партизаны в Македонии преследуют давние цели сербских националистических кругов по покорению болгар. Даже были случаи, когда отдельные македонские болгары воевали в рядах югославских партизан, надеясь на их равноправное отношение к болгарам, а после войны разочаровались в них и примкнули к антиюгославскому сопротивлению. Однако македонские власти, ликвидировав всех потенциальных лидеров сопротивления, в особенности активных членов ВМРО, смогли легко подавить деятельность всех подпольных вооруженных организаций (коммунистических и антикоммунистических), а также прибегли к репрессиям против наиболее активных представителей болгарской молодежи: заключению в тюрьму на длительные сроки семи старшеклассников в Охриде в 1953 г. и убийству пяти студентов в Струмице в 1951 г. (Църнушанов 1992б).
О роли лидера социалистической Югославии Иосипа Броз Тито в применении репрессий, как и о том, знал ли он об истинной этнической структуре Македонии или, может быть, верил своим сербским соратникам по партии, что македонцы якобы ближе к сербам, чем к болгарам, пока еще неизвестно. Но даже если главная роль принадлежала самим македонским коммунистическим функционерам и личной инициативе С. Вукмановича-Темпо, Тито как высший руководитель все равно несет определенную долю ответственности за ликвидацию болгарской идентичности в Македонии: он должен был знать, что происходит в его собственной стране, и остановить произвольные массовые убийства по национальному признаку[6].
Некоторые болгарские ученые обвиняют в полномасштабной фальсификации истории Македонии одного из самых влиятельных культурных деятелей республики, лингвиста, председателя Македонской академии наук и искусств Блаже Конеского. По их утверждениям, которые, впрочем, нуждаются в тщательной дополнительной проверке ввиду их особой серьезности, Б. Конески в 1945 г. писал статьи с несправедливыми обвинениями против выдающихся македонских интеллектуалов-болгар Д. Чкатрова и Д. Гюзелова, которые спустя полгода были убиты, а также совершил плагиат, опубликовав под своим именем десятки страниц лингвистических текстов, написанных Г. Киселиновым (последний из-за давления властей не смог доказать свои авторские права). Б. Конески, родившийся в македонской деревне, где были сильны позиции сербофилов, и получивший среднее и высшее образование в Сербии (как и многие другие послевоенные македонские деятели: Лазар Колишевски, Лазар Мойсов и др.), всячески стремился приблизить македонский язык к сербскому. Он был одним из авторов идеи сербизации македонского алфавита и внедрения сербской терминологии в македонский язык (вместо традиционной болгарской), что и было реализовано. Он же впоследствии провозглашал выдающихся македонских болгар, оставивших письменные свидетельства о своей болгарской идентичности, македонцами по национальности, способствуя утверждению в массовом сознании пропагандистских мифов. Кроме того, в первые послевоенные годы в Македонии не хватало профессиональных кадров – сербофилов, и поэтому власти поощряли деятельность даже открытых политических противников – македонских четников, воевавших во Второй мировой войне за королевскую Югославию против коммунистов-партизан и воспринимавших Македонию вовсе не как равноправную югославскую республику, а как естественное продолжение Сербии. Один из таких бывших четников Божидар Видоески впоследствии также стал известным лингвистом. Все это способствовало глубокому укоренению сербского влияния в Македонии в ущерб болгарскому (Дра-гнев 1998).
До сих пор ни в македонском, ни в сербском обществе так и не произошло осознание масштабов и даже самого факта послевоенных репрессий против македонских болгар – более того, они вообще не упоминаются в македонской и сербской публицистике. Даже такой сербский историк, как Миливой Бешлин, противящийся радикальной форме сербского национализма и подробно описывающий преступления сербских войск в Восточной Боснии и при осаде Сараево, называет политические требования современной Болгарии к Македонии полностью неоправданными и даже «неофашистскими» (Šundić Mihovilović 2020). В них действительно содержатся некоторые ошибочные и нецелесообразные вещи, которые современные македонцы не могут принять, но все же присутствует и рациональное зерно: требование признать существование в Македонии большого количества болгар, которые были репрессированы коммунистическими властями или ассимилированы в македонскую нацию, а также тот очевидный факт, что македонский литературный язык при коммунистах был искусственно отдален от болгарского и приближен к сербскому (о формировании современного македонского языка см.: Кронщайнер 2006).
Учитывая тот факт, что на Балканах именно сербы больше всего пострадали от преступлений в ХХ в., пройдя череду тяжелейших испытаний (прежде всего геноцид со стороны нацистской Германии и усташей в 1941–1945 гг., а также геноцид немецко-австрийских войск в 1914–1918 гг. и вытеснение сербов с территории Косово в новейшее время), использование многими сербскими историками и публицистами преувеличенных цифр сербских жертв болгарского произвола, а особенно использование описаний жестоких преступлений, взятых из доклада комиссии, представляется непродуктивным. Если распространение подобного рода ложных обвинений в сербском обществе (и в особенности – в сербском научном сообществе), а также отрицание доказанных ошибок и преступлений сербский войск и сербской администрации по отношению к болгарам в Македонии будет продолжаться и дальше, а прогрессивные сербские ученые не будут активно реагировать на такой антинаучный дискурс, то отношение болгарского общества к современной Сербии может серьезно ухудшиться.
Но надо сказать, что в истории Балкан были примеры еще худшей пропаганды, чем у рассмотренной комиссии. Так, в НГХ часть СМИ не скрывала своей ненависти к сербскому народу, призывая к выселению всех сербов. Некоторые министры НГХ оскорбляли весь сербский народ и призывали к его депортации, а министр по делам просвещения и религии Миле Будак заявил, что хорватские и боснийские сербы являются не настоящими сербами, а «нищими переселенцами с Востока, которых турки привели в качестве носильщиков и прислуги». Очень распространен в НГХ был также антисемитизм, в том числе со стороны руководителей государства. Евреи обвинялись во всех бедах хорватов, так как они «столетиями грабили хорватский народ». Такая пропаганда ненависти очевидно способствовала массовым преступлениям (Беляков 2009).
В качестве заключения можно отметить, что страны бывшей Югославии нуждаются в переосмыслении трагического опыта ХХ в., когда мировые войны и войны 1990-х гг. принесли региону массовые лишения и страдания, причем в особенности мирному населению. Эти трагические события часто анализируются неправильно, с использованием негативных стереотипов, что отнюдь не способствует примирению, а наоборот, еще больше вредит межнациональным отношениям. Очевидно, что науке и публицистике в этих странах необходимо срочно отойти как от идеализации собственного народа, его государства и армии (на Балканах с их огромным конфликтным потенциалом просто не может быть государств и армий, которые бы себя полностью безупречно вели по отношению к мирным жителям иных национальностей), так и от сатанизации государств и армий соседних народов. Например, представляется ошибочным смотреть на действия Хорватии в 1990-х гг. как на якобы продолжение геноцида сербского народа 1940-х гг., ведь в 1990-х гг. хорватские власти в высшей степени постарались не допустить воспроизведения жестоких преступлений прошлого.
Необходимо также ужесточить редакционную политику научных и публицистических изданий в регионе, строго запретив публикацию любых материалов, в которых авторы оскорбляют соседние народы или допускают неправильные и обидные обобщения типа «хорватская (сербская, болгарская…) армия не в состоянии нормально обращаться с мирными жителями противника и всегда совершает геноцид над ними». Кроме того, на Балканах о преступлениях тех или иных армий часто пишут как раз потомки пострадавших от этих армий и члены семей жертв, вкладывая в тексты свои переживания и горечь от утраты родственников, и поэтому описывают преступления крайне эмоционально, сильно преувеличивая масштаб событий и степень жестокости противника. Такие исследователи к тому же зачастую полностью принимают на веру официальную пропаганду, направленную против соседнего государства, жертвами которого были их предки, не разбираясь в ее достоверности. Поэтому необходимо, чтобы особую активность проявили те балканские ученые и публицисты, у которых в семье никто не пострадал от действий войск других народов. Они могли бы рецензировать научные работы, рассказывающие о военных конфликтах, смягчая их тон, а также вступать в научную полемику с их авторами. Все это привело бы к значительному улучшению межнациональных отношений и отходу от «языка ненависти» к другим народам на Балканах.
Серьезная проблема также заключается в том, что на Балканах на фоне огромного количества публикаций о военных преступлениях крайне мало внимания уделяется положительным примерам. Среди положительных примеров в истории межнациональных отношений на уровне отдельных известных личностей можно привести деятельность сербского митрополита Досифея Васича, который в 1915–1918 гг. был интернирован в Болгарию и столкнулся там с лишениями и недоеданием, а по возвращении в Сербию в 1918 г. обнаружил, что в Нишской епархии много женщин и детей осталось без глав семей – священников, убитых болгарами, и написал об этом открытое письмо политическим лидерам Великобритании и США с описаниями страданий, голода и нищеты семей убитых священников. Тем не менее Досифей продолжал хорошо относиться к Болгарии и в 1927 г. собрал и отвез туда значительные средства для помощи болгарам, пострадавшим от землетрясения (Антонијевић 2012). В соседней Болгарии в марте 1943 г. митрополит Кирилл в городе Пловдив вступился за евреев, которых собрали, чтобы депортировать в нацистские лагеря смерти. Он сказал, что сам ляжет на рельсы, но не допустит, чтобы поезда с евреями отправились в лагеря, и написал телеграмму царю Борису с просьбой проявить милость к евреям. В итоге планируемая депортация нескольких тысяч евреев из «старой» Болгарии была отложена, а затем отменена (Маркарян 2023). Сербский политик Драган Джилас, говоря о сербско-албанских противоречиях по поводу статуса Косово, предложил больше внимания уделять позитивным моментам сотрудничества двух народов, которые были в прошлом, и попробовать прежде всего найти компромисс и точки соприкосновения, а не акцентировать неразрешимые противоречия. Он также подчеркнул важность развития экономического, культурного, образовательного сотрудничества сербов и косовских албанцев (Mondo 2019).
Современный бошнякский писатель и политик Джемалудин Латич больше всего известен как автор поэмы «Сребреницкий инферно» (Srebrenički inferno), повествующей о трагической судьбе боснийской мусульманки, у которой убили мужа и сына, а саму ее изнасиловали, как символе страданий балканских мусульман, в особенности бошняков. Он ввел в свою поэму также образ Стаки Скендеровой. Она была широко известной боснийской сербкой и православной монахиней второй половины XIX в., которая с разрешения турецкого султана Абдул-Азиза в 1858 г. открыла первую женскую школу в Сараево, где получали образование как православные, так и мусульманки. Согласно сюжету Дж. Латича, С. Скендерова перенеслась в 1995 г., когда происходил геноцид над бошняками, и произнесла длинную тираду, решительно осуждающую расправу сербских военных над ни в чем не виноватыми мусульманами Сребреницы, отметив, что мусульмане в истории сделали православным много хорошего. По словам Дж. Латича, он ввел этот сюжет в свою поэму, надеясь на скорое примирение и возобновление тесной дружбы и продуктивного сотрудничества мусульман и православных на Балканах (YouTube 2020). В свою очередь, Вук Драшкович призывает сербское общество активнее признавать страдания боснийских мусульман из-за политики режима Милошевича. Он также призвал сербских писателей и поэтов написать поэму о страдании боснийских мусульманок – матерей убитых в Сребренице пленных и мирных жителей – под названием «Рабия (Разия, Мирсада…), мать из Сребреницы». Он отметил, что подобную поэму под названием «Стоянка, мать из Кнежеполья» (Stojanka majka Knežopoljka) написал в 1942 г. боснийско-мусульманский поэт Скендер Куленович, посвятив ее сербке, потерявшей трех своих сыновей от рук фашистских захватчиков (Drašković 2021).
В целом представляется необходимым по возможности приблизиться к объективному подходу при освещении эпизодов массовых преступлений и геноцида на Балканах, обязательно упоминая при этом или о положительных примерах поведения некоторых представителей народа, чья армия совершила массовые преступления, или о преступлениях армии народа – жертвы агрессии над народом, чья армия совершила эту агрессию. В частности, необходимо при рассмотрении зверств, совершенных усташами, кратко упоминать о невиновных жертвах при агрессии С. Милошевича против Хорватии, а также о положительных примерах поведения хорватов в 1990-е гг., чтобы у читателей и слушателей не складывалось впечатление, что в сербско-хорватском конфликте целиком виноваты только хорватские власти и войска. Также необходимо направить внимание научного и публицистического дискурса в регионе не только на проблему военных преступлений, но и на гораздо более острую (с точки зрения демографических последствий) проблему депопуляции и эмиграции молодежи, которая представляется чрезвычайно острой, особенно в свете пандемии, резко обострившей демографический кризис. Переписи населения Сербии и Хорватии в 2021 г. показали рекордное сокращение численности их жителей, особенно детей и молодежи, в результате естественной убыли населения и массовой эмиграции. Население Сербии сократилось с 7186,9 тыс. до 6690,9 тыс., снизившись на 496 тыс. или на 6,9 % (Vidojković 2022), а население Хорватии уменьшилось c 4284,9 тыс. до 3871,9 тыс., сократившись, таким образом, на 413,1 тыс., или на 9,6 % (Index 2022). Страны региона смогут решить демографическую проблему только сообща, если они преодолеют разногласия, разрешат спорные вопросы и будут серьезно настроены на сотрудничество и взаимопомощь.
Отдельную проблему представляют пассивность и равнодушие многих западных лидеров перед совершавшимися в регионе преступлениями и нежелание предпринимать решительные меры по их прекращению, чтобы не ставить под угрозу свои узкие интересы, что было ярко выражено в бывшей Югославии в начале 1990-х гг.
Библиография
Антонијевић Н. 2015. Ратни злочини на Косову и Метохији 1941–1945. године: докторска дисертација. Београд.
Антонијевић С. 2012. Владика Доситеј (Васић). Епархија шумадијска 13. јануара. URL: https://www.eparhija-sumadijska.org.rs/библиотека/item/1180-владика-доситеј-васић.
Беляков С. С. 2009. Усташи: между фашизмом и этническим национализмом. Екатеринбург: Гуманитарный ун-т.
Билярски Ц. В. 2012а. Академик Димитър Мишев – един живот, посветен на истината и на България. Сите българи заедно 10 март. URL: https://www.sitebulgarizaedno.com/index.php?option=com_content&view=article&id=387:2....
Билярски Ц. В. 2012б. Съдбата на българските военнопленници след Първата световна война. Сите българи заедно 10 марта. URL: http://www.sitebulgarizaedno.com/index.php?option=com_content&view=article&a....
Бондарев Н. В. 2022. Васко Жабата — великий примиритель сербов и болгар. Балканист 9 сентября. URL: https://balkanist.ru/vasko-zhabata-velikij-primiritel-serbov-i-bolgar/.
Вайганд Г. 1998. Етнография на Македония. София: Рива.
Вергилис И. 2016. Как я пережил Холокост в Одессе (По дорогам смерти). Заметки по еврейской истории 4(191). URL: https://berkovich-zametki.com/2016/Zametki/Nomer4/Vergilis1.php.
Влашковић З. 2019. Уништене српске светиње на КиМ. Политика 5 може. URL: https://www.politika.rs/scc/clanak/428769/Unistene-srpske-svetinje-na-KiM.
Врућинић Д. 2007. Демографски губици Србије проузроковани ратовима у ХХ веку. Београд: Музеј жртава геноцида.
Вълков М. 2016. “Заповед за уничтожението на известни категории интелигентни лица” от 1915 г. Либерален преглед 1 юни. URL: http://www.librev.com/index.php/2013-03-30-08-56-39/prospects/bulgaria/2994-1915.
Галев Д. 1991. Белиот терор во Југоисточна Македонија од 1910–1941. Кн. 2. Штип: Друштво за наука и уметност.
Гочев Я. 2011. Сръбският слуга и ньойски фалшификатор Рудолф Арчибалд Райс. Сите българи заедно 29 новембра. URL: https://sitebulgarizaedno.com/index.php?option=com_content&view=article&id=355:2011-....
Григорович В. 1877. Очерк путешествия по европейской Турции. 2-е изд. М.: Типография Лаврова.
Гринин Л. Е. 2023. Ускорение реконфигурации Мир-Системы в связи с СВО и возможные сценарии будущего. Ст. 1. Как СВО влияет на реконфигурацию Мир-Системы. URL: https://www.socionauki.ru/news/3392807.
Гулић М., Лукић А. 2019. Рад Анкетног одбора за извиђај побуне у окрузима: Топличком, Врањском и Нишком 1917. године. Војно-историј-ски гласник. Посебно издање: Први светски рат – 100 година касније. С. 248–272.
Данилова А. А. 2011. Манипулирование словом в средствах массовой информации. М.: Добросвет, КДУ.
Девић Н. 2023а. Како је Јужна Србија ампутирана из српске историје, или: како је Тика Шпиц заменио војводу Лунета. RT Balkan 7. фебруар. URL: https://rt.rs/opinion/nemanja-devic/18362-kako-je-jug-srbije-amputiran-iz-srpske-istorije/.
Девић Н. 2023б. Јасеновац, НДХ: Како пребројати српске жртве. RT Balkan 6. септембар. URL: https://rt.rs/opinion/nemanja-devic/48626-nemanja-devic-jasenovac-istrazivanje/.
Димитров А. 2022. Да се помни: В Кюстендил почитат жертвите на сръбската бомбардировка отпреди 81 години. Глас пресс 7. април. URL: https://glaspress.rs/да-се-помни-в-кюстендил-почитат-жертви/.
Драгнев Д. 1998. Скопската икона Блаже Конески. Македонистки лингвист или сръбски политработник? София: Македонски научен институт.
Ђорић M. 2015. Терор бугарског окупатора у Врањском крају за време Првог светског рата. Национални интерес 23(2): 181–200.
Колиненко Ю. В. Сербская православная церковь в 1878–1920 гг.: национальная идеология и политическая практика: дис. … канд. ист. наук. М.
Коротаев А. В., Халтурина Д. А., Малков А. С., Божевольнов Ю. В., Кобзева С. В., Зинькина Ю. В. 2010. Законы истории: Математическое моделирование и прогнозирование мирового и регионального развития. М.: ЛКИ/URSS.
Кронщайнер О. 2006. Разпадането на Югославия и бъдещето на македонския книжовен език (Късен случай на глототомия?). Promacedonia 5 март. URL: http://www.promacedonia.org/ik/ik_3.html.
Кузнецов Е. Л. 2016. Политика администрации Клинтона в Боснийском конфликте (1993–1995 гг.). URL: http://www.hist.msu.ru/Science/Conf/lomweb01/kuznecov.htm.
Кусев М. 1913. Македония въ своитҍ жители само сърби нҍма. Второ издание. София: Гражданинъ.
Лабаури Д. О. 2010. Межэтнический конфликт в Косово в оценках французской прессы (1999–2004). Imagines mundi 7(4): 155–172.
Лабаури Д. О. 2012. Национальные символы, идеи и мифы в развитии болгарского национального движения в Македонии и Фракии в 1894–1903 гг. Модернизация vs. война: Человек на Балканах накануне и во время Балканских войн (1912–1913) / Отв. ред. Р. П. Гришина, А. Л. Шемякин. М.: Ин-т славяноведения РАН. С. 65–91.
Макартур С. 2007. Когда к штыку приравняли перо. Деятельность СМИ по освещению боснийского кризиса (1992–1995 гг.). М.: Институт славяноведения РАН.
Маркарян А. 2023. Преди 80 г. депортацията на евреите от старите български предели е спряна: церемонии в Пловдив припомнят събитията от 1943 г. Offnews 9 март. URL: https://offnews.bg/obshtestvo/predi-80-g-deportatciata-na-evreite-ot-starite-balgarski-predeli-e-sp-... 56.html.
Милетич Л. 1913. Гръцките жестокости в Македония през Гръцко-българската война. София: Държавна печатница.
Милетич Л. 1929. Документи за противобългарските действия на сръбските и на гръцките власти в Македония през 1912–1913 година. София: Македонски научен институт.
Митев Л. 2010а. „Ньойският договор“ – международно криминално деяние, което няма давност. Сите българи заедно 24 април. URL: https:// www.sitebulgarizaedno.com/index.php?option=com_content&view=article&id=887:im&am....
Митев Л. 2010б. Фалшификации в албума с българските престъпления, анекс към сборника с документи – Синята книга на Международната комисия за конференция в Париж в 1919 г. Сите българи заедно 24 април. URL: https://www.sitebulgarizaedno.com/index.php?option=com_content&view=article&id=906:i....
Неврокопски Б., мит. 2019. Избрани съчинения. София: Св. aпостол и евангелист Лука.
МЧС России. 2020. Гуманитарная помощь Югославии, 22 апреля 1999 г. URL: https://78.mchs.gov.ru/deyatelnost/press-centr/30-let-mchs-rossii/4139114.
Николић Г. 2018. Пиротска гимназија "и пиротске прилике 1941–1944. Пиротски зборник 43: 1–52.
Николић Г. 2022. Потискивање сазнања о ванредном стању у Пиротском округу после Српско-бугарског рата 1885. у светлу анализе ратних сећања Светозара Магдаленића. Пиротски зборник 47: 37–82.
Николич Г. 2010. Албанский популяционный бум в Косово и Метохии после Второй мировой войны. URL: http://www.srpska.ru/article.php?nid=13665.
Никулин А. А. 2018. Принцип «этичности» во внешней политике Великобритании и косовский кризис 1999 года. Вестник государственного и муниципального управления 7(3): 70–78.
Пизари М. 2021. На Балканском фронту. Рат и злочини против цивилног становништва у Србији од 1914. до 1918. Нови Сад: Архив Војводине.
Радивојевић М. 2022. Четврто бомбардовање Београда у једном веку – пркос и страх марта 1999. године. Болести, ратови и глад – српски народ пред изазовима у прошлости и садашњости: тематски зборник радова / Изв. уред. С. Рајић. Београд: Центар за српске студије Филозофског факултета. С. 225–259.
Радосављевић Ј. 2019. Кнежевина Србија и Бугарска Егзархија 1870–1878.: докторска дисертација. Београд.
РИА Новости. 2019. Раскрыты детали уникальной гуманитарной операции в Югославии. РИА Новости 24 марта. URL: https://ria.ru/20190324/1552060938.html.
Ристић И. 2017. Бугарска у политици Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца (1919–1929): докторска дисертација. Београд.
Секулич М. 2019. Книн пал в Белграде. Почему погибла Сербская Краина / Отв. ред. Г. Н. Энгельгардт. М.: АНО ЦСОиП.
Симендић М. 2016. Четничке акције на пругама Србије крајем 1942. и почетком 1943. Друга четничка офанзива против окупатора: мастер рад. Београд.
Станков Г. 2022. Българофобия в Северна Македония през 2021 г. Македонски научен институт 4 април. URL: http://www.mni.bg/2022/04/bul-garofobiata-v-makedonia.html.
Стојановић Љ., Бонасије А., Гавриловић Х., Мен Х. Б., Јовановић С. 1919. Извештај међусавезничке комисије, одређене да констатује све повреде, Хашке конференције, и међународног права, учињене од Бугара у заузетој Србији од 1915–1918. године. Београд: Државна штампарија.
Струкова К. Л. 2004. Общественно-политическое развитие Македонии в 50–70-е гг. ХIХ века. М.: Ин-т славяноведения РАН.
Томанић Б. 2022. Југославија и Бугарска 1941‒1945: између сукоба и савеза: докторска дисертација. Београд.
Ходунов А. С. 2017. Межнациональные отношения и риски дестабилизации в странах бывшей Югославии: история и современность. Системный мониторинг глобальных и региональных рисков: ежегодник / Отв. ред. Л. Е. Гринин, А. В. Коротаев, Л. М. Исаев, К. В. Мещерина. Волгоград: Учитель. С. 258–340.
Ходунов А. С. 2019. Военные преступления против гражданских лиц в странах бывшей Югославии: причины, характер и дискуссия о масштабах. Системный мониторинг глобальных и региональных рисков: ежегодник / Отв. ред. Л. Е. Гринин, А. В. Коротаев, К. В. Мещерина. Волгоград: Учитель. С. 599–687.
ЦДА = Централен държавен архив. 1944. Постановление на народния обвинител при Четвърти состав на Народния съд в София за привличане под отговорност на полковник Христо Стоянов Иванов. ЦДА: фонд 1449, опис 1, а.е. 128, л. 255.
Църнушанов К. 1992а. Македонизмът и съпротивата на Македония срещу него. София: Унив. изд. «Св. Климент Охридски».
Църнушанов К. 1992б. Многократните изяви на националното самоопределение на македонските българи. София: Македонски научен институт.
Църнушанов К. 1996. Принос към историята на Македонската младежка тайна революционна организация. София: Македонски научен институт.
Ancel J. 1993. The “Christian” Regimes of Romania and the Jews, 1940–1942. Holocaust and Genocide Studies 7(1): 14–29. DOI: 10.1093/hgs/7.1.14.
Barthe S., David Ch. P. 2007. The Whitehead Journal of Diplomacy and International Relations 8(2): 85–101.
Bellamy A. J. 2000. Human Wrongs in Kosovo: 1974–99. The International Journal of Human Rights 4(3–4): 105–126.
Bjelajac M. 2005. The Other Side of the War: Treatment of Wounded and Captured Enemies by the Serbian Army. Proceedings of the International Conference organized by the Institute for Balkan Studies and the National Research Foundation “Eleftherios K. Venizelos”. Thessaloniki: Institute for the Balkan Studies. Pp. 195–210.
Blaskovich J. 1997. Anatomy of Deceit: an American Physician’s First-Hand Encounter with the Realities of the War in Croatia. New York: Dunhill Publishing Company.
Bradarić B. 2020. Vučićev izaslanik objasnio zašto je kleknuo na Ovčari: 'Napravio sam to iz srca, ne zbog politike'. Večernji list 18. studenoga. URL: https://www.vecernji.hr/vijesti/kleknuo-sam-na-ovcari-i-opet-bih-zelim-raditi-na-pomirenju-1447161.
Brown D. 1999. Three Cheers for Lord Carrington. The Guardian August 27. URL: https://www.theguardian.com/news/1999/aug/27/derekbrown.
Carnegie Endowment for International Peace. 1914. Report of the International Commission to Inquire into the Causes and Conduct of the Balkan Wars. Washington: Carnegie Endowment.
Chioveanu M. 2007. “The Harvest of Anger”: Politics of Salvation and Ethnic-Cleansing in 1940s Romania: Fascist Thinkers and Authoritarian Doers. Studia Politica: Romanian Political Science Review 7(2): 293–311. URL: https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:0168-ssoar-56067-3.
CNN. 1999. Croat Army Shelled Civilians, Report Says. CNN March 21. URL: http://edition.cnn.com/WORLD/europe/9903/21/croatia.warcrimes.01/index.html.
Cvetković D. 2021. Ko manipuliše i zašto. Vreme 26. kolovoza. URL: https://www.vreme.com/vreme/ko-manipulise-i-zasto/.
Černivec A. 2018. "Znam, Haaški sud nije donio pravdu hrvatskim žrtvama, ali bar je sudio Miloševiću, Karadžiću i Mladiću". Portal Hrvatskoga kultur-nog vijeća 22. listopada. URL: https://www.hkv.hr/hrvatski-tjednik/30502-znam-haaski-sud-nije-donio-pravdu-hrvatskim-zrtvama-ali-ba....
Danas. 2023. Organizacija Novi treći put: Istraživanje pokazalo da je većina građana Srbije za ulazak u BRIKS. Danas 10. srpnja. URL: https://www.danas.rs/vesti/drustvo/oragizacija-novi-treci-put-istrazivanje-pokazalo-da-je-vecina-gra....
Domanovic M. 2014. List of Kosovo War Victims Published. Balkan Insight December 10. URL: https://balkaninsight.com/2014/12/10/kosovo-war-victims-list-published/.
Drašković V. 2020. Srpski časnici „Oluje“. Danas 5. kolovoza. URL: https://www.danas.rs/dijalog/licni-stavovi/srpski-casnici-oluje-2/.
Drašković V. 2021. U čemu je razlika između genocida i užasnog zločina? Danas 3. kolovoza. URL: https://www.danas.rs/dijalog/licni-stavovi/u-cemu-je-razlika-izmedju-genocida-i-uzasnog-zlocina/.
Džananović E. 2020. Fašizam krajem dvadesetog stoljeća: Opsada Sarajeva u brojkama. Tačno.net 5. travnja. URL: https://www.tacno.net/novosti/opsa-da-sarajeva-u-brojkama/.
Fond za humanitarno pravo. 2018. 754 žrtve NATO bombardovanja. Fond za humanitarno pravo 23. ožujka. URL: http://www.hlc-rdc.org/?p=34890.
Grgurinović A. 2018. Hrvatska revizionistička televizija. Mreža antifašistkinja Zagreba 6. lipnja. URL: http://www.maz.hr/2018/06/06/hrvatska-revizionisticka-televizija/.
Hebrang A. 2013. Zločini nad civilima u srpsko-crnogorskoj agresiji na Republiku Hrvatsku. Zagreb: Udruga hrvatskih liječnika-dragovoljaca 1990–1991. Zadar: Ogranak Matice hrvatske u Zadru.
Herscher A., Riedlmayer A. 2000. Monument and Crime: The Destruction of Historic Architecture in Kosovo. Grey Room 1: 108–122.
Horvatić P. 2018. 4. rujna 1993. Francois Mitterand: ‘Volim Srbe, da, i što… Hrvati su ti koji su tlačili 700.000 Srba’. Narod.hr 4. rujna. URL: https://narod.hr/kultura/4-rujna-1993-francois-mitterand-volim-srbe-da-i-stohrvati-su-ti-koji-su-tla....
Hrvatski radio Vukovar. 2014. Žrtve silovanja čekaju pravdu. Hrvatski radio Vukovar 30. travnja. URL: https://hrv.hr/vijesti/vijesti/item/5286-zrtve-silovanja-cekaju-pravdu.
Index.
2022. Konačni rezultati popisa: 3.87
milijuna stanovnika, jako pao broj katolika. Index 22. rujna. URL: https://www.index.hr/vijesti/clanak/kona-cni-rezultati-popisa-387-milijuna-stanovnika-jako-pao-broj-....
aspx.
Intermagazin. 2014. Prvi svetski rat: Kako su Srbi tretirali 40.000 zarobljenih austrougarskih vojnika? Intermagazin 26. svibnja. URL: https://www.intermagazin.rs/prvi-svetski-rat-kako-su-srbi-tretirali-400-000-zarobljenih-austrougarsk....
Jovanović V. 2013. Žila i kundak – žandarmerija na jugu. Peščanik 27. srpnja. URL: https://pescanik.net/zila-i-kundak-zandarmerija-na-jugu/?.
Jovanović N. 2021. Milovan Pisarri: Pitanje bugarskih zločina je potisnuto. Novosti 27. srpnja. URL: https://www.portalnovosti.com/milovan-pisarri-pitanje-bugarskih-zlocina-je-potisnuto.
Jovanović N. 2022. Dositej Vasić - vanvremenska ličnost. Novosti 16. veljače. URL: https://www.portalnovosti.com/dositej-vasic-vanvremenska-licnost.
Južne vesti. 2023. 24 godine od bombardovanja Niša kasetnim bombama u kome je poginulo 16 civila. Južne vesti 7. svibnja. URL: https://www.juzne-vesti.com/Drushtvo/24-godine-od-bombardovanja-Nisa-kasetnim-bombama-u-kome-je-pogi....
Kamenjar. 2017. Izvadak iz nove knjiga Višnje Starešine: “Hrvati pod KOS-ovim krilom: završni račun Haaškog suda”. Kamenjar 2. prosinca. URL: https://kamenjar.com/izvadak-iz-nove-knjiga-visnje-staresine-hrvati-pod-kos-ovim-krilom-zavrsni-racu....
Kosovo Online. 2021. Šoši: Kosovo obnovilo oštećene manastire, Srbija da preuzme odgovornost za džamije, kule i čaršije. Kosovo Online 15. srpnja. URL: https://www.kosovo-online.com/vesti/politika/sosi-kosovo-obnovilo-ostecene-manastire-srbija-da-preuz....
KoSSev = Kosovo Sever portal. 2023. Dan nestalih na Kosovu: Beograd i Priština da učine sve što mogu da se pitanje nestalih reši, a porodice podrže. KoSSev 27. travnja. URL: https://kossev.info/dan-nestalih-na-kosovu-beo-grad-i-pristina-da-ucine-sve-sto-mogu-da-se-pitanje-n... podrze/.
Kotzageorgi-Zymari
X., Hadjianastassiou T. 2000. Memories
of the Bulgarian Occupation of Eastern Macedonia: Three Generations. After
the War was Over: Reconstructing the Family, Nation, and State in Greece, 1943–1960
/ Ed. by M. Mazower. Princeton: Princeton University Press.
Pp. 273–292.
Laudato. 2021. Kako je bl. Alojzije Stepinac spašavao srpski narod čiji ga predstavnici danas osuđuju. Laudato 10. veljače. URL: https://laudato.hr/Novosti/Hrvatska/Kako-je-bl-Alojzije-Stepinac-spasavao-srpski-narod.aspx.
Marković M. 2018. Škare Ožbolt poklopila Pupovca i očitala mu lekciju iz povijesti i poštenja. Maxportal 14. kolovoza. URL: https://www.maxportal.hr/vijesti/skara-ozbolt-poklopila-pupovca-i-ocitala-mu-lekciju-iz-povijesti-i-....
Marušić M. 2015. Povodom prvog listopada. Hvala vam hrabri Srbi i Crnogorci za ono što ste u ratu napravili za Dubrovnik. Dubrovački dnevnik 1. listopada. URL: https://dubrovackidnevnik.net.hr/kolumne/povodom-prvog-listopada-hvala-vam-hrabri-srbi-i-crnogorci-z....
Mishev D. 1918. America and Bulgaria and Their Moral Bonds. Bern: Paul Haupt, Akademische Buchhandlung.
Mondo. 2019. Đilas predstavio dokument o pomirenju Srba i Albanaca. Mondo 25. svibnja. URL: https://mondo.rs/Info/Srbija/a1188844/Djilas-predstavio-Deklaraciju-o-pomirenu-Srba-i-Albanaca.html.
N1 BiH. 2019. "Ime Republika Srpska nije prihvaćeno u Daytonu". N1 BiH 25. siječnja. URL: https://n1info.ba/vijesti/a311879-miro-lazovic-o-dejtonskom-mirovnom-sporazumu/.
Nazor A. 2011. Velikosrpska agresija na Hrvatsku 1990-ih. Zagreb: Hrvatski memorijalno-dokumentacijski centar Domovinskog rata.
Pavić S. 2006. 'Ne može Gotovina odgovarati za pogreške civilne vlasti'. Jutarnji list 30. siječnja. URL: https://www.jutarnji.hr/naslovnica/ne-moze-gotovina-odgovarati-za-pogreske-civilne-vlasti-3377333.
Perić
R. 2017. Stepinčevi interventi kod
Pavelića. Hercegovina. Časopis za kulturno i povijesno naslijeđe 3: 179–211.
DOI: 10.47960/2712-1844.2017.
3.179.
Porges N. 1991. Appeal to Our Jewish Brothers and Sisters. Croatian History. URL: http://www.croatianhistory.net/etf/jew.html.
Poulton H. 1995. Who are the Macedonians? Bloomington: Indiana University Press.
Protić M. 2022. Protić o Jeremiću, Bošku i Jovanoviću: Vi ste SNS s dna kace, niste nikakvi Srbi. Direktno 14. oktobar. URL: https://direktno.rs/kolumne/436485/milan-st-protic-autorski-tekst-nin.html.
Radanović M. 2023. Interniranje srpskog stanovništva s područja kotara Petrinja u logore Jasenovac i Stara Gradiška svibnja 1942. Tragovi 6(1): 120–178. URL: https://hrcak.srce.hr/303537.
Ratusrbiji. 2020. Antiratni pokret u Srbiji (1991–1999). Ratusrbiji 26. svibnja. URL: https://ratusrbiji.rs/antiratni-pokret-u-srbiji-1991-1999/.
RTS = Radio Televizija Srbije. 2009. Surdulica, deset godina kasnije. RTS 27. travnja. URL: https://www.rts.rs/lat/vesti/Politika/57990/Surdulica,+deset+godina+kasnije.html.
Sense Centar za tranzicijsku pravdu. 2017. MKSJ: Slučaj Kosovo 1998–1999. Istraga, rekonstrukcija i procesuiranje kosovskih zločina. Sense Centar za tranzicijsku pravdu. URL: https://kosovo.sensecentar.org/sr.
Sense
Centar za tranzicijsku pravdu. 2023. Dubrovnik 1991: spomenici na nišanu – dan 4. Sense Centar za
tranzicijsku pravdu 4. rujna. URL: https://
sensecentar.org/hr/aktivnosti/dubrovnik-1991-spomenici-na-nisanu-dan-4.
Skoko B. 2015. Dok Vukovar pada, Srbija vodi tajni PR rat. Večernji list 18. studenoga. URL: https://www.vecernji.hr/vijesti/dok-vukovar-pada-srbija-vodi-tajni-pr-rat-1038430.
Slobodna Dalmacija. 2023. Ustaše su u Jasenovcu ubile 5.400 Hrvata! ‘Zločine su najviše činili Hercegovci, u ustašama su služili zbog hrane‘. Slobodna Dalmacija 8. ožujka. URL: https://slobodnadalmacija.hr/vijesti/hrvatska/ustase-u-jasenovcu-ubile-5-400-hrvata-zlocine-su-najvi....
Stojanovic M. 2021. Serbian Public Broadcaster Airs War Crime Convicts’ Denials. Balkaninsight March 24. URL: https://balkaninsight.com/2021/03/24/serbian-public-broadcaster-airs-war-crime-convicts-denials/.
Štrbac S. 2021. Saopštenje povodom godišnjice likvidacije porodice Olujić u Cerni. Dokumentaciono informacioni centar Veritas February 16. URL: http://www.veritas.org.rs/e-veritas-16-02-2021-saopstenje-povodom-godis-njice-likvidacije-porodice-o....
Šundić Mihovilović I. 2020. Tvrdnje Zorana Zaeva najbrutalniji revizionizam. Danas 27. novembar. URL: https://www.danas.rs/svet/tvrdnje-zorana-zaeva-najbrutalniji-revizionizam/.
The Accusations against Bulgaria. 1919. Official Documents Presented by the Bulgarian Delegation to The Peace Conference in Paris. Книги за Македония. URL: http://macedonia.kroraina.com/en/aab/the_accusations_against_bulgaria_1919.pdf.
Telegraf. 2012. GALBRAJT: Pustili smo Hrvatima “Oluju” zbog Srebrenice! Telegraf 21. studenoga. URL: https://www.telegraf.rs/vesti/426344-galbrajt-oluju-smo-dozvolili-zbog-genocida-u-srebrenici.
Telegraf. 2017. Beograd bombardovan zbog sujete Adolfa Hitlera: To je bila njegova lična osveta! Telegraf 6. travnja. URL: https://www.telegraf.rs/vesti/beograd/2710503-beograd-bombardovan-zbog-sujete-adolfa-hitlera-to-je-b....
UNHCR. 1999. Kosovo Crisis Update. UNHCR July 9. URL: https://www.unhcr.org/news/kosovo-crisis-update-57.
Vidojković S. 2022. Prvi rezultati popisa: sve manje stanovnika na jugu Srbije, Niš ostao bez celog jednog Svrljiga. Južne vesti December 21. URL: https:// www.juznevesti.com/Drushtvo/Prvi-rezultati-popisa-sve-manje-stanovnika-na-jugu-Srbije-Nis-ostao-bez-....
Voon T. 2001. Pointing the Finger: Civilian Casualties of NATO Bombing in the Kosovo Conflict. American University International Law Review 16(4): 1083–1113.
Vujnović I. 2022. Divoselo – zločinom do pustoši – zapisi Ilije Vujnovića. Jadovno 9. studenoga. URL: https://jadovno.com/jadovno-divoselo-zlocinom-do-pustosi-zapisi-ilija-vujnovic/.
Vulliamy E. 1991. Leaders Put Old Hatreds Back to Work. The Guardian September 26.
YouTube. 2017. Духовни портрети: др Марија Ђорић. URL: https://www.youtube.com/watch?v=ZQWSWfHc1xI.
YouTube. 2020. Džemaludin Latić: Srebrenica i Staka Skenderova, pravo-slavka u muslimanskoj poemi! URL: https://www.youtube.com/watch?v=ukwQUr876mM.
YouTube. 2023. Трибина “Бугарски ратни злочини у окупираној Србији (1915–1918)”. URL: https://www.youtube.com/watch?v=ZIumXA0X_4s.
* Статья подготовлена при поддержке Российского научного фонда (проект № 23-18-00535 «Борьба за новый мировой порядок и усиление дестабилизационных процессов в Мир-Системе»).
Для цитирования: Ходунов А. С. (2023). Влияние пропаганды и дезинформации на нестабильность в странах бывшей Югославии: история и современность. Системный мониторинг глобальных и региональных рисков 14: 66–155. DOI: 10. 30884/978-5-7057-6259-0_03.
For citation: Khodunov A. (2023). The impact of propaganda and disinformation on instability in the countries of the former Yugoslavia: history and modernity. Sistemnyi Monitoring Globalnyh i Regionalnyh Riskov = Systemic Monitoring of Global and Regional Risks 14: 66–155. DOI: 10.30884/978-5-7057-6259-0_03.
[1] Число жертв агрессии было бы еще больше, если бы не самоотверженный труд хорватских врачей и медсестер. Андрийя Хебранг, посетив больницу в г. Славонски-Брод перед началом обстрелов города, восхищался храбростью и профессионализмом ее врачей, оборудовавших больницу для защиты пациентов от ожидаемых ракетно-бомбовых ударов. Всего на город с территории Боснии и Герцеговины с марта по октябрь 1992 г. сербскими войсками под командованием Ратко Младича было выпущено 50 тыс. гранат, 13 баллистических ракет, сброшено 130 авиабомб, в результате чего были разрушены 3 тыс. зданий, 21 школа, а также фабрики, церкви и детские сады, и убито 150 мирных жителей, в том числе 27 детей. Жители города были вынуждены месяцами прятаться в подвалах, спасаясь от обстрелов. После начала обстрела больницы все операции стали проводиться в подвальном помещении. Всего городская больница за время военных действий приняла 8 тыс. раненых, которым было сделано 10 тыс. операций (Hebrang 2013: 174–175).
[2] Это утверждение представляет собой точку зрения официального Белграда, использовавшуюся для иностранных государств. Тогда как внутри страны, для граждан Сербии, государственные СМИ идеализировали поведение сербских войск и многократно преувеличивали преступления хорватов и мусульман.
[3] Политика Хорватии по отношению к Боснии и Герцеговине и степень ее участия в боснийской войне выходит за рамки данной статьи. Но здесь можно отметить, что, помимо различных обвинений, выдвигаемых Западом против Хорватии, существуют данные о некоторых положительных моментах в поведении хорватских властей по отношению к боснийским мусульманам. Так, в хорватских больницах лечились 10 тыс. раненых боснийских мусульман – мирных жителей и даже военных армии Боснии и Герцеговины (не считая больных). В одной только больнице Сплита лечилось 32 тыс. больных и раненых граждан Боснии и Герцеговины, из них около 40 % – боснийские мусульмане (Nazor 2011: 308). К декабрю 1992 г. Хорватия приняла 663 тыс. беженцев всех национальностей из Боснии, обеспечив им нормальное питание и приемлемые условия проживания, что легло огромным бременем на разоренную войной экономику. Благодаря самоотверженной работе хорватских врачей смертность среди них была почти такой же, как у граждан Хорватии (Blaskovich 1997: 176–177).
[4] Любомир Милетич (1863–1937 гг.) – сын сербского учителя Георгия (Джордже) Милетича, переселившегося в Македонию, а затем в Болгарию. В этой связи его вряд ли можно подозревать в сознательном искажении фактов в пользу болгар.
[5] Особо жестокое отношение Х. Стоянова к жертвам отмечается даже представителями обвинения болгарского Народного суда, которые в целом предпочитают воздерживаться от подобных комментариев: «Ни стоны и рыдания умирающих невинных детей и взрослых, ни рев скота, ни собачий лай – ничего не остановило исполнение этого ужасного адского деяния» (ЦДА 1944).
[6] Отметим также, что в коммунистической Болгарии во второй половине 1940-х гг. впервые в истории осуществлялись репрессии по отношению к некоторым представителям элиты македонских болгар – не только к жителям болгарской Пиринской Македонии, но и к болгарам, эмигрировавшим из Югославии, которые, в отличие от ситуации до 1944 г., уже не могли там себя чувствовать в безопасности. В частности, Б. Разумов, служивший тогда в Пиринском крае, в городе Горна Джумая (соврем. Благоевград) и сопротивлявшийся политике македонизации пиринских болгар, был убит в ноябре 1948 г., а известный писатель из Прилепа Димитр Талев в 1944–1945 и 1947–1948 гг. находился в тюрьмах и трудовых лагерях. В начале 1950-х гг. репрессии были постепенно свернуты.





