Вернуться на страницу ежегодника
Долгосрочная динамика технологического роста
(с 40 000 лет до н. в. до раннего XXII в.), количественный анализ* (Скачать pdf)
DOI: https://doi.org/10.30884/978-5-7057-6258-3_08
Леонид Ефимович Гринин, Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»; Институт востоковедения РАН
Антон Леонидович Гринин, Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова
Андрей Витальевич Коротаев, Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»; Институт Африки РАН
В настоящей статье рассматривается долгосрочная динамика технологического прогресса на протяжении всего исторического процесса и на основании этих результатов, а также наших теорий даны прогнозы на ближайшие 100 лет. Мы основываемся на теории принципов производства и производственных революций, которая дает основания для измерения скорости технологического прогресса и позволяет строить некоторые прогнозы. Нам удалось установить общую динамику ускорения технологического роста за последние 40 000 лет, которая может быть описана с высокой точностью (R2 = 0,99) с помощью простого гиперболического уравнения: yt = C/t0 – t, где yt является скоростью технологического роста, измеряемого в числе технологических фазовых переходов за единицу времени, при постоянных переменных t0 и C, где t0 можно интерпретировать как точку технологической сингулярности.
Ключевые слова: технологический прогресс, принцип производства, производственная революция, фаза, скорость технологического прогресса, фазовые переходы, глобальное старение.
Несмотря на то что технологический прогресс с периода 40 000 л. н. показывает постоянный рост, следуя гиперболическому ускорению, в этом росте можно наблюдать заметные флуктуации. Эти флуктуации могут быть объяснены тем фактом, что технологическое развитие идет в рамках сверхдлинных циклов. Мы показываем, что в рамках этих циклов фазы аккумуляции основных прорывных инноваций заменяются фазами быстрого роста совершенствования и распространения инноваций. Мы также обсуждаем, какую дату принять за точку сингулярности в наших расчетах. Согласно расчетам, основанным на выборе ключевых периодов фазовых переходов в технологической эволюции, дата сингулярности пришлась на начало XXI в. Сингулярность рассматривается нами не как формальный математический момент, но как некий аттрактор, в районе которого можно ожидать радикального изменения прежней модели технологического прогресса со всеми вытекающими из этого последствиями. Некоторые из них нами будут показаны.
В настоящее время довольно распространенным является представление, что технологический прогресс замедляется с 1970-х гг. Однако, как уже было отмечено, в скорости технологического прогресса на протяжении всей его истории наблюдаются значительные флуктуации. Основываясь на теории производственных революций, мы ожидаем нового мощного ускорения технологического развития после 2030-х гг. и затем замедления прогресса в конце XXI – начале XXII столетия. Мы предполагаем, что глобальное старение станет как одним из важнейших факторов этого ускорения, так и (к концу XXI – началу XXII столетия) фактором, тормозящим технологический прогресс. В настоящей статье мы рассмотрим социально-экономические механизмы такого ускорения и замедления.
1. ВВЕДЕНИЕ
Рост скорости исторического процесса
В современном мире люди ежедневно имеют дело с бесчисленным количеством достижений научно-технологического прогресса, становясь все более зависимыми от них и уделяя все больше времени их освоению.
В целом вся история человечества, особенно
последние столетия, может быть описана (хотя и с некоторыми существенными
оговорками)
в аспекте научно-технологических достижений, особенно информационных технологий (Kurzweil 2001; Galor, Tsiddon
1997; Kremer 1993; Carree 2003; Phillips 2011; Kayal 1999; Гринин Л. Е., Гринин
А. Л. 2015а; 2015б; Grinin L., Grinin
A. 2016; Grinin L., Grinin A., Korotayev 2017a; 2020a; 2020b). Технологический рост является
одним из наиболее важных факторов социального
преобразования и развития. И поэтому весьма важно определить основные паттерны
в истории технологического развития и попытаться предвидеть предстоящие
изменения в технологиях и обществе. К сожалению, этому вопросу посвящено
недостаточно исследований. Также существует недостаток работ, которые могли бы
систематически и последовательно описать технологическое развитие и дать
научное объяснение того, почему и как происходят технологические революции.
Вопрос о скорости технологического роста обсуждался нами ранее (Grinin 2006; Гринин 2006а; 2009; Гринин Л. Е., Гринин А. Л. 2015а; Grinin, Korotayev 2015a; Grinin L., Grinin A., Korotayev A. 2020а; 2020b). На эту тему опубликовано множество интересных (хотя часто и противоречивых) сценариев и дискуссий о развитии технологического прогресса (Huebner 2005; Modis 2005)(Ayres 2006; Modis 2006; Magee and Devezas 2011; Linstone 2014) (Modis 1999; Martino 2003; Farmer and Lafond 2015).
Стоит отметить сильную взаимосвязь между различными социальными факторами. На наш взгляд, технологический фактор можно отнести к особенно важным социальным факторам, наиболее влияющим на другие[1], по нескольким причинам:
1. Значительные изменения в производственной базе приводят к увеличению избыточного продукта, богатства и на протяжении большей части человеческой истории к быстрому росту населения, что, в свою очередь, значительно повлияло на рост производства, а также на скорость инноваций (Kremer 1993; Korotayev 2005; 2006b; 2007a; 2008; 2012; Grinin 2011; 2012; Гринин 2016). Эти процессы привели к изменениям во всех сферах жизни (Grinin 2006; 2007a; Гринин 2009; 2012; Гринин Л. Е., Гринин А. Л. 2015a; 2015в; Grinin L. E., Grinin A. L. 2016; Korotayev 2006a; 2007b; 2009; 2013; Korotayev, Zinkina et al. 2011; Korotayev, Zinkina, Andreev 2016). Между тем переход к новым общественным отношениям, новым религиозным формам и т. д. связан не столько с экономическими и демографическими изменениями, сколько с технологическими преобразованиями.
2. Несмотря на то что возникновение больших объемов прибавочного продукта может быть объяснено и некоторыми другими факторами (естественное изобилие, удачная торговля, война и др.), исключительные условия нельзя заимствовать и внедрить, как новые технологии, которые могут распространяться, и, таким образом, они появляются во многих обществах.
3. Производственные технологии касаются общества в целом и, что особенно важно, они связаны прежде всего с основной массой работающего населения, в отличие от элитарной культуры или престижного потребления, которые касаются только верхних слоев общества.
Важно учитывать, что чем выше скорость технологического прогресса, тем более заметно его воздействие на социальные изменения и социальную эволюцию. Исторический процесс имеет тенденцию ускоряться вместе с технологическим ростом, в то время как за этим не успевает ни индивидуальное, ни общественное сознание. Это обоснованно вызывает опасения за будущее общества и Мир-Системы, в связи с чем важно любое исследование, позволяющее прогнозировать изменения скорости технологических инноваций. В настоящей статье на основе изучения технологического роста мы делаем попытку прогноза возможных флуктуаций в скорости технологического развития в ближайшие десятилетия. Конечно, прогнозирование, касающееся путей технологического прогресса, – сложная задача. Но, несмотря на это, мы верим, что это возможно, во-первых, с помощью понимания важнейших процессов прошлых и настоящих ритмов и трендов, а во-вторых, с использованием теорий, помогающих описывать и анализировать относительно повторяющиеся паттерны в определенные промежутки времени (Гринин Л. Е., Гринин А. Л. 2015а; Grinin L., Grinin A., Korotayev 2017a).
Цели исследования
Настоящая статья ставит своей целью: 1) предложить теорию, объясняющую механизмы и циклы масштабных технологических изменений (революций) с кратким изложением технологической эволюции на протяжении всего исторического процесса в соответствии с теорией; 2) предложить концепцию и методологию расчета скорости технологической эволюции начиная с глубокой древности и до первых десятилетий XXII столетия; 3) показать, как, когда и по каким причинам в ближайшем будущем скорость технологического прогресса начнет изменяться и в итоге замедляться. Поскольку технологический прогресс, по нашему мнению, во многом задает темп всему историческому процессу, несомненно, что изменения в его скорости повлекут значительные изменения в развитии человеческой цивилизации в целом и, возможно, даже в эволюции человечества и человека.
Структура статьи
Статья состоит из введения, пяти частей и заключения. В первой части мы очень кратко представляем основные идеи теории принципов производства и производственных революций, даем краткое описание технологических изменений в течение всего исторического процесса согласно периодизации, вытекающей из предложенной теории, а также некоторые прогнозы относительно новой волны технологических изменений (заключительной фазы кибернетической революции) до конца текущего столетия. Таким образом, наше исследование охватывает очень широкий промежуток между верхним палеолитом, или человеческой революцией (Mellars, Stringer 1989), и предстоящей «постчеловеческой» революцией, последствия которой неясны во многих отношениях, но которая, очевидно, положит начало новой эре (подробнее см.: Гринин Л. Е., Гринин А. Л. 2015а; Grinin L., Grinin A. 2016).
Следующие две части посвящены математической интерпретации технологического прогресса в соответствии с предложенной моделью и методами, описанными во введении. В третьей части мы представляем математическую интерпретацию хронологии (описанной в нарративном виде в первой части), а именно длительность 24 этапов технологической эволюции и измерение различных пропорций между ними.
Четвертая часть содержит расчеты скорости технологического прогресса и даты его замедления.
Последняя, пятая, часть посвящена проблемам взаимосвязи между глобальным старением и технологическим прогрессом, поскольку мы считаем глобальное старение одним из наиболее важных факторов (и при этом фундаментально новым в истории), который может сначала ускорить, а затем замедлить научно-технический прогресс. Заключение посвящено вопросам о возможном влиянии глобального старения на модель потребления.
Материалы и методы
Для решения указанных задач мы используем, во-первых, теорию принципов производства и производственных революций (которая успешно разрабатывается нами уже на протяжении 30 лет), позволяющую понять логику технологического развития в рамках исторического процесса и их периодизацию. Теория была детально описана ранее (Гринин 2006а; 2009; 2012; 2015а; Grinin 2006; 2007a; 2007b; 2012; Grinin L., Grinin A. 2013a; 2013b; 2014; 2015a; 2015b; 2016; Grinin, Korotayev 2015a; Grinin L., Grinin A., Korotayev A. 2017а). Во-вторых, мы используем математические методы, которые позволяют, опираясь на указанную периодизацию, показать скорость технологического прогресса (как частоту фазовых переходов в единицу времени). Для этого используется методология, приложенная к более длительным процессам (см., в частности: Modis 2005). Мы также использовали достаточно известные формулы, которые позволяют сравнить наши результаты с результатами, полученными исследователями, измерявшими скорость общей эволюции на Земле, в том числе определяя так называемую сингулярность, которая показывает, когда можно ожидать переломного момента и качественных изменений в исследуемом процессе.
Проблема глобальной исторической сингулярности, особенно в рамках проблематики Большой истории, обсуждается уже несколько десятилетий (см., например: Панов 2004; 2005; 2006; 2008; 2009; 2013; Kurzweil 2005; Ayres 2006; Modis 2006; Muehlhauser, Salamon 2012; Magee, Devezas 2011; Eden et al. 2012; Shanahan 2015; Callaghan et al. 2017; Korotayev 2018; Nazaretyan 2015; 2016; 2017; 2018; см. также: LePoire, Korotayev 2020). Сингулярность стала особенно популярной благодаря Р. Курцвейлу, техническому директору в области машинного обучения и обработки естественного языка компании Google, в особенности его книге The Singularity is Near (2005), а также через создание им Университета Сингулярности (2009), активную PR-кампанию и др.
Несмотря на критику, гипотеза сингулярности может представлять определенный интерес для анализа социальной макроэволюции и теории исторического процесса на современном этапе развития человеческого общества.
Для объяснения причин замедления в будущем скорости технологического процесса мы стремились выделить реальные механизмы и отношения, способные замедлить это движение. Мы связываем последнее с глобальным старением (как одним из важнейших результатов технологического прогресса), однако мы увидим, что влияние старения на скорость технологического прогресса не линейна, здесь можно выделить по крайней мере два крупных этапа.
Насколько нам известно, подобных исследований еще не было. Оно тем более важно, что в истории человечества еще не было ситуации, когда пожилые люди составляли бы столь большую долю населения и в перспективе эта доля росла. И от ответа на этот вызов во многом будет зависеть дальнейший ход социальной эволюции. Стоит отметить, что влияние глобального старения на темпы и направления научно-технологического прогресса исследуется недостаточно (Galor, Weil 2000; Prettner 2013; Цирель 2008; de Grey, Rae 2008). Идеи Ф. Фукуямы также не потеряли своего значения в этом отношении (например, о возможном будущем эйджизме [Fukuyama 2002; наш анализ рисков, связанных с глобальным старением, см.: Goldstone et al. 2015; Гринин Л. Е., Гринин А. Л. 2015а; 2015в; 2017; Гринин, Коротаев 2015; Grinin, Korotayev 2010; 2015b; 2016a; 2016b; Grinin L., Grinin A., Korotayev 2017а]). Это тем более важно, поскольку часто прогноз технологического развития строится на эмпирических или феноменологических обобщениях, например на известном законе Мура (Kurzweil 2005; Farmer, Lafond 2015), который не имеет достаточного теоретического объяснения и, по-видимому, перестает действовать по разным причинам (см., например: Kish 2002)[2].
Новизна нашего исследования заключается в том, что мы пытались взять за переменную в исследовании развития будущих технологий темпы изменения в возрастном составе населения. В итоге мы получили нетривиальный результат, согласно которому в ближайшие десятилетия именно процесс глобального старения способен вызвать технологическое ускорение и изменить его направление, а затем – ближе к концу настоящего и в начале будущего столетия, – напротив, пожилое общество может оказаться тормозом научно-технологического прогресса. Мы также делаем предположение о том, что и современная модель потребления может измениться.
2. РАЗВИТИЕ ИСТОРИЧЕСКОГО
ПРОЦЕССА
В СВЕТЕ ТЕОРИИ ПРИНЦИПОВ ПРОИЗВОДСТВА
2.1. Принципы производства
и производственные революции
Согласно нашей концепции (Гринин 2006а; 2009; 2012; 2013; Гринин Л. Е., Гринин А. Л. 2015а; Grinin, Korotayev 2015a), весь исторический процесс наиболее продуктивно можно разделить на четыре больших периода на основе смены крупнейших этапов развития мировых производительных сил, названных нами принципами производства. Принцип производства – это понятие, которое обозначает значительные качественные ступени развития мировых производительных сил в историческом процессе. Это система неизвестных ранее форм производства и технологий, принципиально превосходящих старые (по возможностям, масштабам, производительности, продуктивности, а во многом и по номенклатуре продукции и т. п.).
Мы выделяем четыре принципа производства:
1) охотничье-собирательский;
2) аграрно-ремесленный;
3) промышленно-торговый[3];
4) научно-кибернетический (он находится еще в начале развития).
Из всех многообразных технологических и производственных изменений, имевших место в истории, наиболее глубокие и всеобъемлющие последствия для общества имели три революции (см. рис. 1):
1. Аграрная, или сельскохозяйственная. Ее результат – переход к систематическому производству пищи и на этой базе – к сложному общественному разделению труда. Эта революция связана также с использованием новых источников энергии (силы животных) и материалов.
2. Промышленная, или индустриальная, в результате которой основное производство сосредоточилось в промышленности и стало осуществляться при помощи машин и механизмов. Значение этой революции не только в замене ручного труда машинным, а биологической энергии – водной и паровой, но и в том, что она открывает в широком смысле процесс трудосбережения (причем не только в сфере физического труда, но и в учете, контроле, управлении, обмене, кредите, передаче информации).
3. Кибернетическая, на начальной фазе которой появились мощные информационные технологии, стали использоваться новые материалы и виды энергии, распространилась автоматизация, а на завершающей – произойдет переход к широкому использованию самоуправляемых систем в разных сферах деятельности, которые смогут функционировать без вмешательства человека. Кибернетическая революция еще продолжается. Мы считаем, что она позволит сделать огромные шаги в улучшении здоровья человека, качества нашей жизни и способности влиять на человеческий организм и контролировать его (подробнее см. ниже; см. также: Гринин Л. Е., Гринин А. Л. 2015а; Grinin, Grinin, Korotayev 2017a; Grinin L., Grinin A. 2015a; 2016).
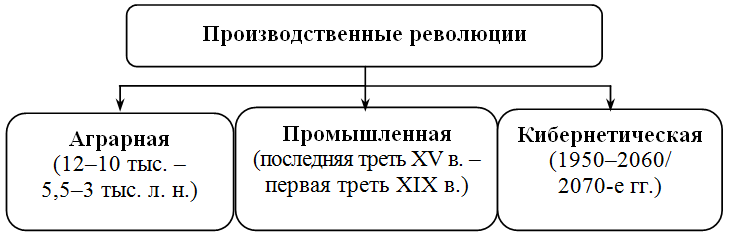
Рис. 1. Производственные революции в истории
Цикл каждой производственной революции выглядит следующим образом: начальная инновационная фаза (проявление нового революционного сектора) – фаза модернизации (распространение, синтез и совершенствование новых технологий) – завершающая инновационная фаза (когда новые технологии приобретают свои зрелые характеристики).
Фазы принципа производства
Каждую производственную революцию можно рассматривать как неотъемлемую часть принципа производства. Производственная революция является первой «половиной» принципа производства, тогда как последующие три (послереволюционных) этапа – это период доведения заложенных в нем возможностей до максимальной степени развития как в структурном и системном, так и в пространственном смысле. Во второй «половине» происходит разработка зрелых технологий, основанных на принципе производства. Цикл принципа производства может быть представлен в шести этапах/фазах (эти понятия в статье используются как синонимы). На этой схеме основан наш математический анализ. Цикл выглядит следующим образом.
Первые три его этапа соответствуют трем фазам производственной революции.
1. Этап начала производственной революции. Формируется новый, еще неразвитый и неполный принцип производства.
2. Этап первичной модернизации, распространения и укрепления принципа производства.
3. Этап завершения производственной революции. Приобретение принципом производства развитых характеристик.
Это еще не полностью развившийся принцип производства.
4. Этап зрелости и экспансии принципа производства. Широкое географическое и отраслевое распространение новых технологий, доведение принципа производства до зрелых форм, виток трансформаций в социально-экономической сфере.
5. Этап абсолютного доминирования принципа производства. Окончательная победа принципа производства в мире, интенсификация технологий, доведение возможностей до предела, за которым возникают кризисные явления.
6. Этап несистемных явлений, или подготовительный (к переходу к новому принципу производства). Интенсификация ведет к возникновению несистемных элементов, которые подготавливают условия для появления нового принципа производства. (Когда при благоприятных обстоятельствах эти элементы смогут сложиться в систему, в некоторых обществах начнется переход к новому принципу производства, и цикл повторится.)
Последние три этапа принципа производства характеризуют уже его зрелые черты.
Развитие принципа производства – это период зарождения, развития и трансформации новых форм, систем и парадигм организации хозяйствования, во много раз превосходящих по важнейшим параметрам прежние. (Хронологию принципов производства и их этапов см. в табл. 1.)
Основываясь на этом шестифазном цикле принципа производства, мы делаем наши расчеты скорости технического прогресса, где переход от одной стадии к другой рассматривается как фазовый переход. Следующие параграфы в этом разделе посвящены описанию истории технологических изменений в рассматриваемом макропериоде.
2.2. Охотничье-собирательский принцип
производства
Нам представляется, что будет более верным в рамках предложенной периодизации считать началом исторического процесса (и соответственно началом первого – охотничье-собирательского – принципа производства) период примерно 40–50 тыс. л. н., то есть время появления первых бесспорных признаков подлинно человеческой культуры и общества, когда уже можно говорить о человечестве как совокупности социумов. Полагаем, что только такая точка отсчета (для удобства берем ближнюю к нам датировку – 40 тыс. л. н.) дает представляемой периодизации достаточно логичное концептуальное и формальное единство в своем основании.
Итак, наша периодизация открывается революцией, в результате которой формируется подлинно человеческое общество, и этот переход вполне можно считать «протопроизводственной» революцией, особенно если учесть, что сами люди, несомненно, являются важнейшей частью производительных сил, а язык, знания и навыки – важнейшей частью технологии[4]. Весь период охотничье-собирательского принципа производства и первой формации, в нашем понимании, в ее восходящей части составляет примерно 30–40 тыс. лет: от появления уже «полностью социального» Homo sapiens sapiens (40–50 тыс. л. н.) до начала перехода к сельскому хозяйству (примерно 12–9 тыс. л. н.). После этого общества присваивающего хозяйства существовали и развивались еще многие тысячи лет, но они уже были вне ведущей траектории развития исторического процесса и Мир-Системы.
Из-за скудости сведений о первобытности этапы охотничье-собирательского принципа производства наиболее продуктивно связывать с качественными рубежами приспособления к природе и овладения ею (которые можно рассматривать также в качестве своего рода фазовых переходов в рамках окончательного становления социальной макроэволюции). Нельзя не учитывать, что размеры коллективов, орудия труда, способы хозяйствования, образ жизни – словом, почти все в очень высокой степени зависело от окружающих природных условий. Если соотносить этапы также с крупными изменениями в природных условиях, появляется возможность привязаться к абсолютной хронологии в общечеловеческом масштабе. Это тем более обоснованно, что в соответствии с предлагаемой концепцией часть географической среды должна (в теоретической модели) рассматриваться как органическая часть системы производительных сил, причем системная роль природных компонентов в общей системе производительных сил тем важнее, чем слабее их техническая часть (см.: Гринин 1996; 2000; 2003; 2006б; 2009). Такие подходы, хотя и недостаточно развитые, уже давно прокладывают себе дорогу (см., например: Ким 1981: 13; Данилова 1981: 119; Анучин 1982: 325; Кульпин 1990; 1996). Исходя из представленной выше теоретической установки, мы и будем давать характеристики этапам принципов производства.
Первый этап охотничье-собирательского принципа производства можно связать с «верхнепалеолитической революцией» (40 000–30 000 BP)[5] (подробнее см.: Mellars, Stringer 1989; Marks 1993; Bar-Yosef 2002; Shea 2007; 2013; Марков 2012; Mellars et al. 2007; Powell et al. 2009) и появлением собственно человеческой культуры и созданием хотя и примитивных, но уже социальных производительных сил (см.: Гринин, Коротаев, Марков 2012; Гринин Л. Е., Гринин A. Л. 2015в). В этот период имелось уже более ста типов орудий (Борисковский 1980: 180; см. также: Tattersall 2008: 150–158; 2012: 166–173; Jochim 2011b; о технологическом и инструментальном «наследии» антропогенеза см.: d’Errico, Backwell 2005; Марков 2011а; 2011б; Jochim 2011a). Люди проникают в различные части ойкумены, например Сибирь, первоначальное заселение которой, возможно, происходило «широким фронтом» с Южного Урала, из Казахстана и Центральной Азии (см., например: Мочанов 1977).
Второй этап (примерно и очень условно 30 тыс. л. н. – 23 [20] тыс. л. н.) привел к почти полному преодолению того, что можно назвать остаточным противоречием антропогенеза: между биологическими и социальными регуляторами жизнедеятельности[6] (подробнее см.: Grinin, Korotayev 2009; Гринин, Коротаев, Марков 2012; Гринин Л. Е., Гринин А. Л. 2015а). Этот этап связан с интенсивным расселением людей и освоением удобных для жизни мест, в том числе заселением Сибири (Долуханов 1979: 108) и, нельзя полностью исключить, некоторых областей Нового Света (Зубов 1963: 50; 2002; Сергеева 1983), хотя здесь датировки очень разбросаны (см., например: Мочанов 1977: 254; Сергеева 1983; Березкин 2007а; 2007б). Но насколько бы условной ни была хронологическая датировка этого этапа (так как привязаться к чему-либо здесь сложно), главное в характеристике этого этапа – появление необходимого разнообразия первичных человеческих культур, что явилось важнейшей предпосылкой как для разнообразных социокультурных адаптаций, так и для появления на базе этих адаптаций новых арогенных инноваций и столь широкого расселения людей, что резкие изменения климата уже не могли в одинаково сильной степени повлиять на все человечество в целом (а следовательно, и не были столь фатальными).
Третий этап продолжался до 18–16 тыс. л. н. На это время приходится период максимального похолодания планетарного масштаба за всю геологическую историю развития Земли[7]. И хотя это было далеко не первое оледенение, но в этот раз люди уже имели достаточный уровень развития производительных сил и социальности, чтобы часть коллективов смогла не только выжить в более суровых условиях, но даже благоденствовать на базе получения некоторого излишка продукции. Огромные изменения происходят в разнообразии и количестве орудий труда (Чубаров 1991: 94). Именно в это время появляются зоны быстрой смены типов и наборов каменных инструментов, например во Франции (Григорьев 1969: 213; Jochim 2011b), а в Леванте (18 тыс. л. н.) появляются микролиты (Долуханов 1979: 93, Shea 2013). Это свидетельствует о совершении второго этапа описанной выше «протопроизводственной» (сапиентной, «верхнепалеолитической») революции. Во многих местах на этом и последующих этапах основными эволюционными изменениями, связанными с эпипалеолитом, были усиление экономической интенсификации и рост населения (Shea 2013: 162). В течение этого и следующего четвертого этапа – примерно 17–14 (18–15) тыс. л. н. – степень приспособления к изменяющимся природным условиям сильно возрастает (Jochim 2011b; 2011c). Там, где не было катастрофического похолодания, появлялись также интенсивные собиратели (Холл 1986: 201; Харлан 1986: 200; Файнберг 1986: 185; Go-ring-Morris et al. 2009; Shea 2013).
Пятый этап – 14–11 (15–12) тыс. л. н., то есть конец палеолита – начало мезолита (Файнберг 1986: 130), – можно связать с началом отступления ледников и сильным изменением климата (Ясаманов 1985: 202–204; Короновский, Якушова 1991: 404–406; Goring-Morris, Belfer-Cohen 2017). В результате этого потепления и изменения ландшафтов крупных млекопитающих стало меньше. Поэтому на данном и следующем этапах в ряде районов происходил переход к индивидуальной охоте (Марков 1979: 51; Чайлд 1949: 40, Файнберг 1986; Jochim 2011c; Shea 2013; для более позднего периода см.: Simmons 2013). Появились технические средства (лук, копьеметалка, ловушки, сети, гарпуны, топоры и т. п.) для поддержания автономного существования более мелких групп и даже отдельных семей (Марков 1979: 51; Придо 1979: 69; Авдусин 1989: 47). Возникло или приобрело важное значение рыболовство на реках и озерах (Матюшин 1972; Ritchie et al. 2016; Bergsvik, Ritchie 2018). Были разработаны новые типы каменных наконечников стрел: листообразные, рифленые, с полым основанием и крылатые. Костяные и деревянные наконечники стрел имели изогнутую, а затем колючую и гарпунную форму (Семенов 1968: 323, 324).
Шестой этап (примерно 12–10 [11–9] тыс. л. н.) также связан с продолжающимися потеплением климата, изменениями природной среды и переходом в конце его к голоцену (Хотинский 1989: 39, 43; 43; Wymer 1982), а в археологической периодизации – к неолиту, который связан с большим прогрессом в технике обработки камня (Семенов 1968; Монгайт 1973; Авдусин 1989; Янин 2006; Milisauskas 2011b). Этот период свидетельствует о большом количестве важных нововведений, которые в целом открыли путь к новому, аграрно-ремесленному принципу производства (см., например: Mellaart 1975; Ammerman, Cavalli-Sforza 2014; Shea 2013). Особенно интересны в этом плане народы – собиратели урожая как потенциально более ароморфно-перспективная ветвь развития. Такое собирательство может быть очень продуктивным (см., например: Липс 1954; Антонов 1982: 129; Шнирельман 1989: 295–296; Lamberg-Karlovsky, Sabloff 1979; см. также: Tanno et al. 2013; March 2013; Conte et al. 2018).
Аграрно-ремесленный принцип производства
Начало аграрной революции датируют интервалом 12–9 тыс. л. н., хотя в некоторых случаях следы первых культурных растений или костей одомашненных животных датируются даже 14 000–15 000 л. н. Но первые следы – это еще не революция. Поэтому весьма условно можно говорить, что первый этап аграрно-ремесленного принципа производства продолжался примерно в интервале от 10,5 тыс. до 7,5 тыс. л. н. (то есть это время 9–6-го тыс. до н. э.). Как видно, мы берем некоторый промежуточный интервал дат для начальной инновационной фазы аграрной революции / первого этапа ремесло-аграрного принципа производства, то есть от 10 000 до 7300 л. н. Стоит отметить, что термин «неолитическая революция» может быть связан только с этой фазой аграрной революции и началом следующей.
Какие бы растения ни выращивались, самостоятельное изобретение сельского хозяйства всегда имело место в особых природных условиях (в отношении Юго-Восточной Азии см., например: Деопик 1977: 15). Соответственно, развитие производства зерновых могло происходить только в определенных природных и климатических условиях (Гуляев 1972: 50–51; Шнирельман 1989: 273; 2012a; Мелларт 1982: 128; Harris, Hillman 1989; Массон 1967: 12; Lamberg-Karlovsky, Sabloff 1979; Ammerman, Cavalli-Sforza 2014; Milisauskas 2011a; 2011b). Предполагается, что выращивание зерновых культур началось где-то на Ближнем Востоке: на холмах Палестины (Mellaart 1975; Мелларт 1982), в районе Верхнего Евфрата (Алексеев 1984: 418; Холл 1986: 202) или в Египте (Харлан 1986: 200). В целом (но не в каждом обществе) был одомашнен довольно большой набор растений. Так, по некоторым данным, в южном и восточном Китае культивировалось 97 различных растений (Londo et al. 2006). Данный период заканчивается формированием Переднеазиатского региона земледелия, а в целом можно говорить о формировании Мир-Системы (Korotayev 2005; 2007a; 2012; 2013; Korotayev, Malkov, Khaltourina 2006a; Grinin, Korotayev 2009; 2012; 2013a; 2013b; 2014a; 2018), в том числе ее первых протогородских центров (о протогородах и первых городах см.: Lamberg-Karlovsky, Sabloff 1979; Массон 1989; Schultz, Lavenda 1998: 214–215; Balter 2006; Korotayev 2006b; Korotayev, Grinin 2006; 2012; 2013).
Второй этап условно можно датировать периодом 8–5 тыс. л. н. (VI – середина-конец IV тыс. до н. э.; но для целей вычисления мы берем интервал 7300–5000 л. н.), то есть до начала складывания единого государства в Египте и формирования там достаточно эффективного ирригационного хозяйства. Он включает в себя образование новых очагов земледелия (Milisauskas 2011b; Milisauskas, Kruk 2011a), распространение из Передней Азии сельскохозяйственных культур в другие регионы. В этот период завершается доместикация мелкого рогатого скота, а также первых тягловых животных – быков (Шнирельман 2012б; Meadows et al. 2007; см. также: Roberts 1998; Gupta 2004; Zeder, Hesse 2000; Bryner 2008). Идет активный обмен достижениями: культурами, сортами, технологиями и т. п. (Zin-kina et al. 2017; 2019). Этим периодом датируются первые медные артефакты и инструменты в Египте и Месопотамии, а также Сирии (начиная с 5-го тыс. до н. э.) (Tylecote 1976: 9). В этот период происходит так называемая городская революция, по Г. Чайлду (Childe 1952: ch. 7; см. также: Lamberg-Karlovsky, Sabloff 1979; Массон 1980; 1989: 33–41; Oppenheim 1968; Adams 1981; Pollock 2001: 45; Bernbeck, Pollock 2005: 17; Bondarenko 2006: 50; Mellaart 1975; Wenke 1990: 326–330; Turnbaugh et al. 1993: 464–465; Harris 1997: 146; Schultz, Lavenda 1998: 214–215; Balter 2006)[8].
Третий этап длился в интервале от 5000 до 3500 (5300–3700) л. н., то есть 3000–1500 гг. до н. э. В целом он совпадает со второй фазой аграрной революции, то есть переходом к интенсивному земледелию (сначала ирригационному, потом уже и неполивному плужному). Выделяются в самостоятельные отрасли скотоводство, ремесло и торговля (о ремесленной специализации см.: Costin 2005; 2015; Hruby, Flad 2007). Хотя ремесло, согласно нашим взглядам, не определяло в решающей степени процесс развития аграрной революции, однако важно заметить, что именно в конце второго и начале третьего этапов аграрно-ремесленного принципа производства, то есть 3500–3000 гг. до н. э. (Чубаров 1991; о плуге см. также: McNeill 1963: 24–25; Крамер 1965; Ренфрю 2002; Bunch, Hellemans 2004; Milisauskas, Kruk 2011b), создаются или начинают широко внедряться в мир-системном ядре важнейшие технологические инновации: колесо, плуг, гончарный круг, упряжь (ярмо), а также металлургия бронзы[9] (о бронзе и металлургии см.: Tylecote 1976: 9; Chernykh 1992; Harding 2011; см. также: Duistermaat 2017; Roux 2017; Li Shuicheng 2018). Именно в этот период появляются первые государства, а затем формируются первые империи в Египте и на Ближнем Востоке. Урбанизация в этот период набирает темпы, охватывая новые регионы, хотя в отдельные промежутки времени и в отдельных местах (в особенности после середины 3-го тыс. до н. э.) она приостанавливается и идет частичная дезурбанизация. Говоря словами А. Л. Оппенхейма (1990: 88), шло непрерывное противоборство анти- и проурбанистических тенденций. Этот этап условно заканчивается периодом серьезного хозяйственного, агротехнического и ремесленного подъема в Египте в начале Нового царства (Виноградов 2000), что соответствует и появлению там первого развитого государства (Гринин 2010). Это был период, когда на Ближнем Востоке возникли первые государства, а затем и империи. Урбанизация также расширилась, достигнув новых регионов (He Nu 2018; Chen Chun, Gong Xin 2018). В данном случае стоит отметить, что в районах интенсивного поливного земледелия роль государства в производстве была огромной, поэтому появление нового типа государств свидетельствовало о новых возможностях для качественного роста производства и принципа производства в целом.
Четвертый этап (3500–2200 [3700–2500] л. н., или 1500–200 гг. до н. э.) – период утверждения во многих зонах Мир-Системы интенсивного, в том числе плужного неполивного, сельского хозяйства. В этот период наблюдался невиданный ранее рост ремесла, городов, торговли, появились новые цивилизации, шло внедрение и широкое распространение металлургии железа (Tylecote 1976; Чубаров 1991; Колосовская, Шкунаев 1988: 211–212; Дэвис 2005: 61; Wells 2011), происходили и другие процессы, которые свидетельствовали, что новый принцип производства начинал обретать зрелость. В конце этого этапа формируются мир-империи принципиально нового масштаба и уровня организации (на западе – Римская республика, на востоке – первое централизованное государство в Китае) (Chase-Dunn, Hall 1997; Chase-Dunn et al. 2010; Гринин 2010; 2011; Grinin et al. 2016). Сам факт появления таких империй свидетельствовал о начавшемся переходе принципа производства к этапу высокой зрелости, а с другой стороны, наличие таких империй в дальнейшем определило самые существенные изменения как в производительных силах, так и в других сферах жизни Мир-Системы.
Пятый этап (конец III в. до н. э. – начало IX в. н. э.) – период наиболее полного развития производительных сил аграрно-ремесленного хозяйства, расцвета и гибели древних цивилизаций, появлений цивилизаций нового типа (арабской, европейской и др.; см.: Chase-Dunn, Hall 1997; 2011; Chase-Dunn, Manning 2002; Гринин 2011).
Шестой этап (IX – первая треть XV в. н. э.) характеризуется тем, что сначала происходят важные изменения в производстве и других сферах в арабо-исламском мире и Китае, в частности, во второй половине 1-го тыс. до н. э. в бассейне Индийского океана от восточного побережья Африки до Индонезии и далее, до Юго-Восточной Азии и Китая, сложился прообраз Мир-Системы, связанной океанами (см. об этой широкой международной торговле, в которой играли важную роль персидские, арабские, индийские и другие купцы: Bentley 1996; Chew 2014; 2016; Boussac et al. 2016; о трансъевразийской торговле см.: Abu-Lughod 1989; о диффузии инноваций см.: Grinin, Korotayev 2015a; Гринин Л. Е., Гринин А. Л. 2015в). Затем начинается рост городов и хозяйственный подъем в Европе, который в конце концов создает первые очаги промышленности и предпосылки для начала промышленной революции (см. также: Grinin, Korotayev 2013a; 2013b; 2015a).
Торгово-промышленный принцип производства
Первый этап промышленной революции, а соответственно и первый этап промышленного принципа производства, можно датировать второй третью XV – XVI в. На авансцену выходят те виды деятельности, которые одновременно были способны к генерированию нововведений и могли аккумулировать наибольшее количество прибавочного продукта: торговля (Манту 1937: 61–62; Бернал 1956: 21; Cameron 1989; см. также: Acemoglu et al. 2005; Голдстоун 2014; Grinin, Korotayev 2015a), колониальное хозяйство (Бакс 1986), которые с XVI в. все прочнее сплетались, промышленность. Действительно, в это же время в отдельных местах сложилась примитивная, но уже именно промышленность. Именно в конце этого периода, согласно И. Валлерстайну, складывается капиталистическая мир-экономика (Wallerstein 1974; 1980; 1987; 1988).
Здесь уместно упомянуть точку зрения, согласно которой наряду с промышленной революцией XVIII в. также произошла более ранняя промышленная революция (или даже промышленные революции). Этот технологический подъем, имевший место в Европе между 1100 и 1600 гг., был замечен давно, еще в 1930-х гг. – начиная с работ Льюиса Мамфорда (Mumford 1934), Марка Блоха (Bloch 1935), Элеоноры Карус-Уилсон (Carus-Wilson 1941), и активно изучался экономическими историками в 1950–1980 гг. (Lilley 1976; Forbes 1956; Armytage 1961; Gille 1969; White 1978; Gimpel 1992; см. также подробнее: Hill 1955; Johnson 1955; Bernal 1965; Braudel 1973; Исламов, Фрейдзон 1986: 84; Гуревич 1969: 68; Дмитриев 1992: 140–141; Хут 2010; Lucas 2005). Этот период также вполне справедливо считается временем научного прорыва или, скорее, ряда революционных прорывов в таких областях, как математика, астрономия, география, картография и т. д. (см., например: Singer 1941; Голдстоун 2014). Хотя идея выделения раннего Нового времени (конец XV – XVIII в.) и привлекла ряд сторонников, все эти ученые не связывают раннее Новое время с более ранней промышленной революцией. Между тем это может дать прекрасную возможность глубже понять логику технологической эволюции в целом.
Конец XVI – первая треть XVIII в. – это второй этап (молодость) нового принципа производства, период роста и развития новых секторов, пока они не стали ведущими в отдельных обществах (Голландия и Англия). Согласно нашей теории, в течение именно этого периода в рамках Мир-Системы наблюдается начало формирования первых зрелых государств, которые были также связаны с формированием целой системы мегалополисов с населением в несколько сотен тысяч каждый; этот переход стал особенно очевиден в течение следующей фазы (см. подробнее: Grinin 2006; Korotayev, Grinin 2006). Это также период, в течение которого, благодаря изменениям в производстве и торговле, которые оказали огромное влияние на трансформацию сельского хозяйства, впервые в истории человечества возникла достаточно устойчивая тенденция к выходу из мальтузианской ловушки, то есть тенденция, которая способствовала тому, что рост производства продуктов питания в конечном счете стал опережать рост населения. Эту тенденцию мы назвали контрмальтузианской модернизацией, которая завершилась только в результате второго этапа промышленной революции (Гринин, Коротаев, Малков 2008). В целом этот период можно рассматривать как подготовительный к промышленной революции с довольно ярким проявлением ранних капиталистических отношений и форм производства в некоторых регионах Европы (Северная Италия, Южная Германия, Нидерланды, Южная Франция [см., например: Pirenne 1920–1932; Wallerstein 1974; Postan 1987; Мильская, Рутенбург 1993; Lucas 2005; Гринин Л. Е., Гринин А. Л. 2015в; Grinin L., Grinin A. 2016; Grinin, Korotayev 2015a]).
Период со второй трети XV в. до конца XVI в. является начальным этапом промышленной революции. Он связан с развитием мореплавания, мануфактуры и механизации на базе водяной мельницы, распространением и совершенствованием различных машин, развитием разделения труда. В это время в разных частях Европы можно было наблюдать значительные прорывы в разных направлениях, которые к концу периода образовали общую систему нового производства в Западной Европе (Johnson 1955; Braudel 1973; Wallerstein 1974; Барг 1991; Ястребицкая 1993; Davies 1996; Гринин Л. Е., Гринин А. Л. 2015в; Grinin L. E., Grinin A. L. 2016; Grinin, Korotayev 2015a). Изменения в одной стране имели тенденцию оказывать существенное влияние на экономику и жизнь людей в других странах. Это происходило благодаря распространению инноваций, изданию специальных технических книг, перемещению ремесленников и специалистов в разные страны, внедрению различных достижений и инноваций, которые нередко осуществлялись самими королями и императорами, и т. д. Многочисленны примеры впечатляющих достижений в области механизации горных работ в Южной Германии и Богемии. Исключительно значимы продвижения в развитии судоходства, географических открытий и мировой торговли, которых достигли испанцы и португальцы, а также англичане. Нельзя не упомянуть разработки технологий мануфактурного производства в итальянских и фламандских городах; серьезные сдвиги в сельском хозяйстве на севере Франции и в Нидерландах. Имели место важные научные и математические открытия ученых Италии, Франции, Польши, Англии. Распространились новые финансовые технологии, разработанные в Италии. И все это быстро стало общим достоянием всей Европы (Barone 1993; Davies 1996; 2001; Collins, Taylor 2006; Goldstone 2009; 2012; Ferguson 2011; Porter 2012; Голдстоун 2014).
Период с начала XVII в. до первой трети XVIII в. (1600–1730) является вторым этапом торгово-промышленного принципа производства (его также можно рассматривать как модернизационную фазу промышленной революции). В это время можно было наблюдать формирование сложного промышленного сектора и капиталистической экономики, усиление механизации и углубление разделения труда. Это была эпоха торгового лидерства голландцев, преемника гегемонии Испании и Португалии. В Нидерландах создана беспрецедентная индустрия кораблестроения, механизированных портовых сооружений и рыболовства (Boxer 1965; Jones 1996; de Vries, van der Woude 1997; Rietbergen 2002; Israel 1995; Allen 2009; Гринин Л. Е., Гринин А. Л. 2015в; 2016; Grinin, Korotayev 2015a; Голдстоун 2014).
Однако XVII в. – это
еще и век очень больших изменений в военной технике, науке и машиностроении. В
результате войн и других факторов
в этот период Нидерланды теряют свое лидерство, которое постепенно
переместилось в Британию (Rayner 1964; Boxer 1965; Snooks
1997; Jones 1996; de Vries, van der Woude 1997; Rietbergen 2002). Таким образом, на данном этапе
промышленной революции (и нового принципа производства) новые отрасли
промышленности стали доминирующими в некоторых странах (о развитии инноваций в
разных европейских странах в этот период, а также в более ранние и более
поздние периоды, особенно в Нидерландах и Великобритании, см.: Grinin, Korotayev 2017).
Наконец, период между 1730 и 1830 гг. можно определить как третий этап торгово-промышленного принципа производства (и одновременно завершающую фазу промышленной революции). Этот прорыв сопровождался созданием секторов с машинным производством и использованием паровой энергии. Замена ручного труда машинами имела место в хлопчатобумажном производстве, которое развивалось в Великобритании (Berlan-stein 1992; Mokyr 1993; 1999; Griffin 2010; Манту 1937). Паровой двигатель Уатта начал использоваться в 1760-х и 1770-х гг. Развивалась новая мощная отрасль – машиностроение. Промышленный переворот был более или менее завершен в Великобритании в 1830-х гг. Хотя Великобритания явно была здесь лидером, мы уже наблюдаем в этот период ряд важных процессов, которые можно отнести к общеевропейским (включая развитие военных технологий, торговли, науки, общеевропейских коммерческих и промышленных кризисов второй половины XVIII в., начало демографической революции – см. ниже). В этом подходе мы ясно видим результат коллективных достижений различных обществ Европы в промышленной революции, своего рода эстафету достижений (см.: Grinin, Korotayev 2015a; Korotayev, Grinin 2017). Успехи индустриализации были очевидны в ряде стран к тому времени, и это также сопровождалось значительными демографическими преобразованиями (Armengaud 1976; Minghinton 1976: 85–89; Chesnais 1992; Caldwell 2006; Dyson 2010; Livi-Bacci 2012).
Четвертый этап (с 1830-х гг. до конца XIX в. [1830–1890-е гг.]) – это период победы машиностроения и его мощного распространения (подробнее см.: Гринин Л. Е., Гринин А. Л. 2015в; Grinin L. E., Grinin A. L. 2016). Этот период соответствовал второму технологическому укладу в хронологии длинных кондратьевских циклов (железнодорожные дороги, уголь, сталь) и началу формирования третьего уклада (электроэнергетика, химическая промышленность и тяжелое машиностроение). Это время невероятного количества инноваций (см.: Bunch, Hellemans 2004; Korotayev, Grinin 2017).
Пятый этап (1890–1929 гг.) имел место в конце XIX – начале XX в. до мирового экономического кризиса конца 1920-х – 1930-х гг. За этот период произошли значительные изменения (подробнее см.: Гринин Л. Е., Гринин А. Л. 2015в; Grinin L. E., Grinin A. L. 2016). Химическая промышленность развивалась быстрыми темпами, включая производство искусственных материалов, произошел прорыв в производстве стали. Широкое использование электричества (вместе с нефтью) постепенно начало вытеснять уголь. Электрические двигатели заменили паровые, поэтому они сильно изменили облик заводов и повседневную жизнь. Развитие двигателя внутреннего сгорания привело к широкому распространению автомобилей. Благодаря введению сборочной линии производство автомобилей резко возросло. Это был период первых изобретений в электронике.
Шестой этап продолжался до середины XX в. (1929–1955 гг.). Период 1930-х гг. дал множество базовых инноваций, многие из которых были внедрены в 1940–1970-х гг. Особенно много было достижений в военной сфере, в авиации, ракетных и более поздних космических разработках, в ядерной энергетике. Это был период стремительного роста автомобильного, химического производства и начала производства электроники, включая первые компьютеры. В этот период произошли активная интенсификация производства и внедрение научных методов его организации. Произошли беспрецедентное развитие стандартизации и расширение производственных единиц. Признаки предстоящей кибернетической революции становились все более и более очевидными.
Научно-кибернетический
принцип производства
и кибернетическая революция
Научно-кибернетический принцип производства находится в начале своего развития (см. рис. 2 и 3). Первая его фаза только завершилась, а вторая еще продолжается. Это дает возможность произвести гипотетический расчет длительности будущих его фаз.
Первый этап научно-кибернетического принципа производства имел место в период между 1950-ми и серединой 1990-х гг., когда наблюдалось активное развитие информационных технологий и началась экономическая глобализация. Он также связан с переходом к научным методам управления. Особенно важные изменения произошли в информационных технологиях. Кроме того, производственная революция имела несколько других направлений: в энергетических технологиях, в производстве синтетических материалов, автоматизации, освоении космоса и сельском хозяйстве. Тем не менее ее основные результаты еще впереди.
Как должен помнить читатель, первая фаза нового принципа производства соответствует начальной фазе новой производственной революции (см. рис. 2). Производственная революция, которая началась в 1950-х гг. и продолжается до настоящего времени, в ее ранний период иногда называлась научно-технической революцией (см., например: Bernal 1965; Benson, Lloyd 1983). Однако было бы более уместно называть ее кибернетической революцией, поскольку ее основные изменения предполагают расширение возможностей управления различными процессами с помощью саморегулируемых систем.
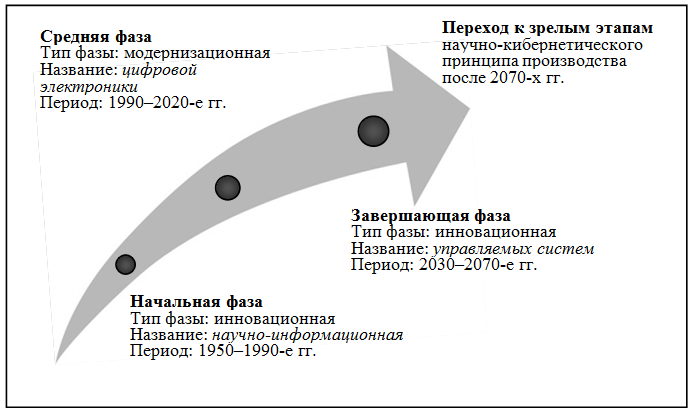
Рис. 2. Фазы кибернетической революции
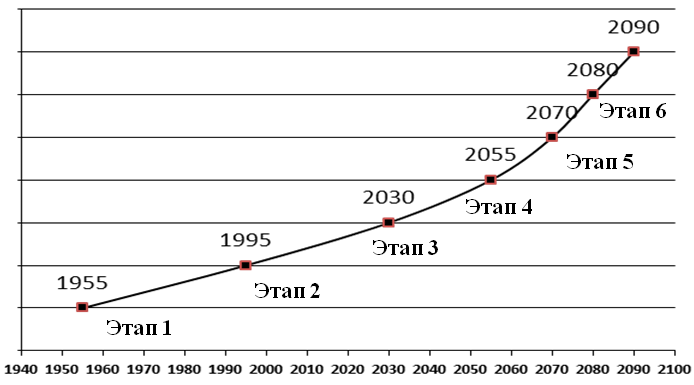
Рис. 3. Научно-кибернетический принцип производства
Второй этап научно-кибернетического принципа производства (= модернизационная фаза кибернетической революции, см. рис. 3) начался в середине 1990-х гг. в связи с развитием и широким распространением компьютеров, технологий связи, сотовых телефонов и т. д. Медицина, биотехнологии и некоторые другие инновационные области также достигли значительного прогресса (см.: Grinin L. E., Grinin A. L. 2015a; 2015b; 2016: Chs. 3–4; Гринин Л. Е., Гринин А. Л. 2015а; Grinin L., Grinin A., Korotayev 2017a). Этот этап продолжается до настоящего времени, но приближается к своему завершению.
Прежде чем мы начнем обсуждать будущие преобразования, стоит уточнить наше понимание современных и будущих темпов технического прогресса. Ряд исследователей считают, что скорость как технического, так и научного прогресса уже замедляется (Maddison 2007; Teulings, Baldwin 2014; Панов 2009; Phillips 2011; см. также: Коротаев, Божевольнов 2010); Это также можно косвенно наблюдать, если сравнить число изобретений за десятилетие 1950–1960 гг. с 1970–1990 гг., согласно данным (Bunch, Hellemans 2004).
Мы не считаем, что в будущем скорость технического прогресса будет снижаться, однако она и не будет постоянной. В обозримом для нашей теории времени скорость будет нелинейной. В начальной фазе кибернетической революции скорость технического прогресса ускорилась, а в модернизационной (с 1990-х гг.) она замедлилась. Мы считаем, что этот темп не изменится существенно до середины 2030-х – начала 2040-х гг. (см. также: Phillips 2011), а после этого технологический рост будет испытывать новое ускорение. Затем будет наблюдаться постепенное замедление до точки сингулярности с последующим изменением паттерна (см. ниже).
Третий этап научно-кибернетического принципа производства, вероятно, начнется в 2030-х гг. Он обозначит начало заключительного этапа кибернетической революции, которая, по нашему мнению, может стать эпохой саморегулирующихся систем. Завершающая фаза этой революции может начаться в сфере медицины и будет связана с ее инновационными отраслями. Преобразования в этой фазе ведут к серьезной модификации человеческого организма (подробнее см.: Гринин Л. Е., Гринин А. Л. 2015а; Grinin L. E., Grinin A. L. 2016; Grinin, Korotayev, Tausch 2016; Grinin L., Grinin A., Korotayev 2017a).
Движущими силами заключительного этапа кибернетической революции станут медицинские технологии, аддитивное производство (3D-принтеры), нано- и биотехнологии, робототехника, информационные технологии, когнитивные технологии, которые вместе образуют сложную систему саморегулирующегося производства. Мы можем обозначить этот комплекс как МАНБРИК-конвергенцию[10]. При этом медицина станет основной интегрирующей частью (см.: Гринин Л. Е., Гринин А. Л. 2015а; Grinin L. E., Grinin A. L. 2016; Grinin, Korotayev 2016a; 2016b; Grinin, Korotayev, Tausch 2016; Grinin L., Grinin A., Korotayev 2017a).
Ожидаемая продолжительность четвертого, пятого и шестого этапов научно-кибернетического принципа производства составляет 2055–2070; 2070–2080; 2080–2090 гг. соответственно.
Четвертый этап предполагает,
что сформировавшийся сектор самоуправляемых
систем будет в течение следующих двух десятилетий быст-
ро совершенствоваться и с огромной скоростью распространяться на различные
области и регионы. Здесь мы можем встретиться с эффектом ускорения технологического процесса (подробнее см.
ниже). Одновременно это должен быть период значительного роста ожидаемой
продолжительности жизни и соответственно процесса глобального старения
населения, в том числе он захватит и ныне
молодые по возрастам регионы (Африку
и др.) (Гринин Л. Е., Гринин А. Л. 2015в; Grinin L. E., Grinin A. L. 2016; Grinin, Korotayev,
Tausch 2016; Grinin L., Grinin A., Korotayev 2017a;
2017b).
Пятый и шестой этапы в связи с ростом и уровнем сложности самоуправляемых систем (а вместе с этим и рост процесса управления обществом и производством) и серьезными продвижениями в медицине могут быть связаны с началом перехода к новой системе экономики (см. ниже). С другой стороны, возможно, глубокие и болезненные перемены в обществах и в рамках Мир-Системы будут связаны с серьезными конфронтациями.
К этому времени процесс глобального старения охватит очень многие страны. В то же время более консервативное пожилое население, возможно, будет больше влиять на инновации и их направление. Это станет сопровождаться глубокими болезненными изменениями и конфронтациями в обществах Мир-Системы. Кроме того, будет расти число социальных саморегулируемых систем, которые в основном еще будут работать автономно, регулируя поведение большого числа людей в определенных ситуациях. Их использование будет направлено для создания положительных или отрицательных поведенческих стимулов (метод кнута и пряника) для регулирования поведения человека. Это будет иметь фундаментальные, с одной стороны, и противоречивые – с другой, последствия, которые могут как привести к росту консерватизма со стороны старшего поколения, так и вызвать обратную реакцию. Отметим, что уже сегодня мы начинаем сталкиваться с действием таких социальных саморегулируемых систем, внедрение которых в практику усилилось в связи с коронавирусом.
Отметим также, что к этому времени закончится шестая К-волна и начнется трансформация кондратьевских волн (о чем мы уже пили: Grinin, Korotayev, Tausch 2016; Grinin L., Grinin A., Korotayev 2017a; 2017b).
Как мы увидим далее, развитие медицинских технологий и глобальное старение будут находиться в сложной нелинейной зависимости (см. также: Phillips 2011). На третьем, но особенно на последующих этапах произойдут значительные изменения в количестве людей, занятых в различных профессиях, а также серьезные изменения в номенклатуре профессий, часть которых начнет исчезать под влиянием новых технологий (в том числе роботизации). По нашему мнению, неквалифицированные услуги будут особенно подвержены риску. В то же время сфера квалифицированных и высококвалифицированных услуг претерпит значительные преобразования (более подробную информацию см.: Гринин Л. Е., Гринин А. Л. 2015в).
Все это свидетельствует о том, что конец XXI и начало XXII столетия могут стать переломными в отношении современной человеческой цивилизации. Начнут формироваться уже принципиально новые отношения, контуры которых пока не очень ясны. В любом случае роль технологического прогресса изменится, так же как и сам его характер. Это будет довольно заметно на шестом этапе в начале XXII в., при этом замедление прежнего типа технологического прогресса будет означать подготовку к переходу к новым формам общественных отношений.
3. МАТЕМАТИЧЕСКАЯ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОГРЕССА
(В РАМКАХ ИСТОРИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА)
Основные задачи данного раздела:
1) показать в цифрах длительность каждого из четырех принципов производства и длительность каждого из шести этапов в рамках одного принципа производства. Эти данные представлены в табл. 1 и 2. Из них видны: а) общие временные параметры принципов производства; б) ускорение технологической эволюции как в рамках каждого принципа производства от этапа к этапу, так и особенно при сравнении предшествующего и последующего принципов производства. Таким образом, мы видим не просто ускорение техноэволюции, но разный ритм этого ускорения, а, соответственно, и разное количество инноваций в единицу времени, поскольку именно инновации при их внедрении и способствуют общему росту ускорения; в) эти данные позволяют лучше обобщить нарративно-хронологическое описание технологической эволюции, которое мы дали в предыдущей части;
2) показать, что принцип производства – не просто определенная ступень развития мир-системных производительных сил, а довольно сложный цикл технических инноваций и организационно-технологических системных перестроек производства, которые неизбежно, с одной стороны, требуют глубоких изменений в разных сферах жизни общества, а с другой – влекут за собой новые изменения. В табл. 3 и 4 сделаны расчеты соотношений между этапами (и комбинациями этапов) в рамках каждого принципа производства, которые показывают очень интересные моменты, а именно: отношение длины каждой фазы (и комбинации фаз) к общей длине соответствующего принципа производства в процентах (Табл. 3) и сравнение соотношений длин фаз для каждого принципа производства в процентах (Табл. 4) в каждом цикле принципа производства сохраняют удивительное постоянство, которое не может быть случайным. Например, длительность первого и третьего этапов каждого принципа производства в процентах от общей длительности всего принципа производства составляет соответственно от 28 % до 33 %; от 16 % до 18 % (колеблются вокруг аттракторов соответственно 30,6 и 17,6). Напомним, что это наиболее важные этапы производственных революций. Довольно близким является и соотношение длительности этапов друг к другу – например, во всех четырех принципах производства соотношение колеблется в довольно узких рамках от 120 % до 150 %. Небольшой разброс пропорций, колеблющихся вокруг некоего аттрактора, виден во всех 19 соотношениях, приведенных в табл. 3 и 4. Эти устойчивые паттерны демонстрируют определенные глубинные и фундаментальные закономерности развития технологического процесса и технологической эволюции в рамках исторического процесса. Все это позволяет нам делать прогнозы о длительности будущих этапов научно-кибернетического принципа производства;
3) дать основу для расчета ускорения технологического прогресса, который мы приводим в следующей части.
В табл. 1 представлены даты всех фаз всех принципов производства. Однако следует принять во внимание, что для удобства в хронологии все даты усредняются. В табл. 2 представлены абсолютные длины фаз в тыс. лет.
Tабл. 1. Хронология этапов принципа производства
|
Принцип производства |
1-й этап |
2-й этап |
3-й этап |
4-й этап |
5-й этап |
6-й этап |
Итого весь принцип производства |
|
1. Охотничье-собирательский |
40000– 30000 (38000– 28000 до н. э.) 10 |
30000– 22000 (28000– 20000 до н. э.) 8 |
22000– 17000 (20000– 15000 до н. э.) 5 |
17000– 14 000 (15000– 12000 до н. э.) 3 |
14000– 11500 (12 000– 9500 до н. э.) 2,5 |
11500– 10000 (9500– 8000 до н. э.) 1,5 |
40000– 10000 (38000– 8000 до н. э.) 30 |
|
2. Аграрно-ремесленный |
10000– 7300 (8000– 5300 до н. э.) 2,7 |
7300– 5000 (5300– 3000 до н. э.) 2,3 |
5000– 3500 (3000– 1500 до н. э.) 1,5 |
3500– 2200 (1500– 200 до н. э.) 1,3 |
2200– 1200 (200 до н. э. – 800 н. э.) 1,0 |
800– 1430 н. э.
0,6 |
10000–570 (8000 до н. э. – 1430 н. э.)
9,4 |
|
3. Промышленный |
1430– 1600 0,17 |
1600– 1730 0,13 |
1730– 1830 0.1 |
1830– 1890 0.06 |
1890– 1929 0.04 |
1929– 1955 0.025 |
1430– 1955 0.525 |
|
4. Научно-кибернетический |
1955–1995* 0,04 |
1995–2030 0,035 |
2030–2055 0.025 |
2055–2070 0.015 |
2070–2080 0.01 |
2080–2090 0.01 |
1955–2090 0.135–0.160 |
Примечание. Цифра перед скобкой – абсолютная шкала (л. н. от современности), цифра в скобках – до н. э. (более подробную хронологию см.: Гринин 2006а; 2009). Полужирным шрифтом обозначена длительность этапов (в тыс. лет). Длительность этапов научно-кибернетического принципа производства предположительная.
Начиная со второго столбца строки мы даем оценки ожидаемых длин этапов научно-кибернетического принципа производства.
Табл. 2. Длительность принципов производства и их этапов (в тыс. лет)
|
Принцип |
1-й этап |
2-й этап |
3-й этап |
4-й этап |
5-й этап |
6-й этап |
Итого
|
|
1. Охотничье-собирательский |
10 |
8 |
5 |
3 |
2,5 |
1,5 |
30 |
|
2. Аграрно-ремесленный |
2,7 |
2,3 |
1,5 |
1,3 |
1,0 |
0,6 |
9,4 |
|
3. Промышленный |
0,17 |
0,13 |
0,1 |
0,06 |
0,04 |
0,025 |
0,525 |
|
4. Научно-кибернетический |
0,04 |
0,035* |
0,025 |
0,015 |
0,01 |
0,01 |
0,135 |
Примечание. *В этой строке указываются наши оценки ожидаемой длины этапов научно-кибернетического принципа производства.
Таким образом, предлагаемая периодизация демонстрирует стабильные паттерны повторяющихся циклов развития (каждый из которых включает шесть фаз), однако каждый последующий цикл оказывался короче, чем предыдущий, благодаря ускорению технологического роста. Стоит отметить, что это повторяющиеся циклы, потому как в каждом цикле в некотором отношении развитие происходит по схожей схеме: каждая фаза в рамках каждого цикла играет функционально схожую роль, и, более того, пропорции длин фаз и их комбинации остаются довольно стабильными (см. табл. 3, 4 и выше). Это подтверждается расчетами в табл. 3 и 4, согласно которым пропорции длин фаз и их комбинации остаются неизменными при изменении принципов производства.
Табл. 3 представляет результаты расчетов отношения длины каждого этапа к длине соответствующего принципа производства с использованием довольно простой методологии. Абсолютная длина этапа (или сумма длин двух или трех этапов) делится на полную длину соответствующего принципа производства. Например, если продолжительность охотничье-собирательного принципа производства составляет 30 000 лет, то продолжительность его первого этапа составляет 10 000, второго – 8000, а третьего – 5000. Отношение длины первой фазы к общей основной длине производства составит 33,3 %; отношение суммы длительности первой и второй фаз к общей длительности принципа производства – 60 %; а отношение суммы длительности первой, второй и третьей фаз к общей длительности основного принципа производства – 76,7 %.
В табл. 4 используется аналогичная методология для сравнения длины фаз (и комбинаций фаз) в рамках одного принципа производства. Например, для охотничье-собирательского принципа производства отношение длины первой фазы (10 000 лет) ко второй (8000 лет) равно 125 %, тогда как отношение второй фазы к третьей (5000 лет) составляет 160 %. Между тем отношение суммы длин первой и второй фаз к сумме третьей и четвертой фаз (3000 лет) составляет 225 %. В табл. 3 и 4 также представлены средние показатели по всем принципам производства.
Табл. 3. Отношение длительности каждого этапа и их комбинаций к длительности принципа производства (в процентах)
|
Принцип производства |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
1–2 |
3–4 |
5–6 |
1–3 |
4–6 |
|
1. Охотничье- |
33,3 |
26,7 |
16, 7 |
10 |
8,3 |
5 |
60 |
26,7 |
13,3 |
76,7 |
23,3 |
|
2. Аграрно-ремесленный |
28,7 |
24,5 |
16,0 |
13,8 |
10,6 |
6,4 |
53,2 |
29,8 |
17 |
69,1 |
30,9 |
|
3. Промышленный |
32,4 |
24,8 |
19 |
11,4 |
7,6 |
4,8 |
57,1 |
30,5 |
12,4 |
76,2 |
23,8 |
|
4. Научно- кибернетический |
29.6 |
25.9 |
18.5 |
11.1 |
7.4 |
7.4 |
55.6 |
29.6 |
14.8 |
74.1 |
25.9 |
|
среднее значение |
31 |
25.5 |
17.6 |
11.6 |
8.5 |
5.9 |
56.5 |
29.2 |
14.4 |
74.0 |
26.5 |
Табл. 4. Сравнение соотношения длительности этапов каждого принципа производства (в процентах)
|
Принцип
|
1:2 |
2:3 |
3:4 |
4:5 |
5:6 |
(1+2): (3+4) |
(3+4): (5+6) |
(1+2+3): (4+5+6) |
|
1. Охотничье- |
125 |
160 |
166,7 |
120 |
166,7 |
225 |
200 |
328,6 |
|
2. Аграрно- |
117,4 |
153,3 |
115,4 |
130 |
166,7 |
178,6 |
175 |
224,1 |
|
3. Промышленный |
130,8 |
130 |
166,7 |
150 |
160 |
187,5 |
246,2 |
320 |
|
4. Научно- |
114.3 |
140 |
166.7 |
150 |
100 |
187.5 |
200 |
285.7 |
|
среднее значение |
121.4 |
144.2 |
149.7 |
133.3 |
160.9 |
190.3 |
205.3 |
282.1 |
Таким образом, количественный анализ данных, представленный в таблицах выше, демонстрирует следующее:
а) эволюция каждого принципа производства во времени имеет повторяющиеся особенности, при этом наблюдается устойчивое математическое соотношение между длиной фаз и комбинациями фаз в рамках каждого принципа производства (табл. 3, 4);
б) анализ цикла показывает, что резкий рост скорости технологического развития является результатом производственной революции;
в) благодаря анализу устойчивых математических соотношений цикла принципов производства можно сделать некоторые предварительные прогнозы (в частности, в отношении длины будущих этапов научно-кибернетического принципа производства).
4. МАТЕМАТИЧЕСКАЯ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОГРЕССА,
МЕТОДОЛОГИЯ РАСЧЕТОВ
Каждый принцип производства – шестифазовый цикл. Переход на каждый новый этап в рамках принципа производства можно рассматривать как важный технологический сдвиг или фазовый переход. Ниже представлена периодизация, включающая 24 фазы и, соответственно, 23 фазовых перехода (см. Табл. 5, хронология фаз представлена в этой же таблице).
Сложные и длительные процессы, как правило, не могут идти равномерно. Это в полной мере касается технологической эволюции. Как уже было верно отмечено (Kayal 1999), технологический прогресс – это череда ускорений и замедлений скорости развития технологий. В статье (Ibid.) автор пытался показать механизм таких ритмов. Однако нам представляется, что это слишком общие (хотя и верные) рассуждения.
Согласно нашей теории, ритм ускорения и замедления зависит от функциональных особенностей каждой временной фазы в рамках цикла технологических изменений (то есть принципа производства). На одних этапах имеет место как бы «взрыв» инноваций, здесь мы можем заметить ускорения (это, например, первый и третий этапы), на других – эти инновации улучшаются и распространяются, и мы видим замедление (например, на втором этапе). На одних фазах идет мощная экспансия нового принципа производства, здесь должно быть ускорение (например, пятый этап), на других возникают уже кризисные явления и происходит замедление (это шестой, последний этап).
Для расчетов скорости технологического роста мы использовали методологию, предложенную А. Д. Пановым (2004; 2005; 2006; 2008; 2009; 2013; Panov 2005; 2011; 2017), в соответствии с которой временная дистанция между фазовыми переходами (= временная длина фаз) пересчитывается в частоту фазовых переходов = количество фазовых переходов = макроэволюционная скорость роста. Панов использовал методику для расчета скорости планетарного макроэволюционного развития; в нашем случае эту переменную вполне можно интерпретировать как скорость технологического роста в рамках исторического процесса (ее также можно назвать макротехнологическим ростом).
Примечательно, что, как и во временных рядах А. Д. Панова (а также в аналогичных временных рядах Т. Модиса [Modis 2002; 2003], Р. Курцвейла [Kurzweil 2001; 2005] и Д. ЛеПуара [LePoire 2009; 2013] – анализ этих рядов приведен в [Korotayev 2018; Коротаев 2020а]), временная длина фаз в наших временных рядах систематически уменьшается, в то время как скорость макротехнологического роста увеличивается (см. Табл. 5).
4.1. Расчет сингулярности при незавершенности
научно-кибернетического принципа производства
Важно отметить, что сингулярность указывает не на точку, где значение соответствующей переменной фактически становится бесконечной, а скорее на точку, до которой гиперболическая форма соответствующей кривой должна измениться на какую-либо другую траекторию, подразумевающую некоторое замедление, соответствующие признаки которого наблюдались уже в последние десятилетия (Huebner 2005; LePoire 2005; Phillips 2011; Korotayev 2018). Ниже мы обсудим возможность нового ускорения технологического роста.
Мы полагаем, что расчет сингулярности можно делать как от точки, на которой мы находимся сегодня, так и от предполагаемой в будущем точки, насколько можно предвидеть развитие исследуемого процесса в будущем. Вот почему мы используем двойной подход к определению сингулярности.
В первом случае мы показываем, что если остановиться только на том, что есть сейчас, точка сингулярности приблизится. В этом плане расчет будет близок к тому, что наблюдается у Р. Курцвейла, Т. Модиса и А. Д. Панова, и это показывает, что наш математический аппарат вполне адекватен.
Но одного математического аппарата без сущностной теоретической части явно мало. А поскольку мы, надеемся, убедительно доказали, что замедление и ускорение технологического процесса происходят циклично, приведем ниже расчет сингулярности в соответствии с прогнозом предполагаемого ускорения технологического процесса после 2030–2040-х гг. И именно этот расчет сингулярности является главным в данной статье.
Табл. 5. Основные этапы производства, их сроки, продолжительность и динамика темпов технологического роста (только для эмпирически наблюдаемых данных)
|
Фазовый переход |
Дата |
Длина |
Скорость |
|
Охотничье-собирательский 1 |
40 000 л. н. |
10000 |
1,0 × 10-4 |
|
Охотничье-собирательский 2 |
30 000 л. н. |
8000 |
1,3 × 10-4 |
|
Охотничье-собирательский 3 |
22 000 л. н. |
5000 |
2,0 × 10-4 |
|
Охотничье-собирательский 4 |
17 000 л. н. |
3000 |
3,3 × 10-4 |
|
Охотничье-собирательский 5 |
14 000 л. н. |
2500 |
4,0 × 10-4 |
|
Охотничье-собирательский 6 |
11 500 л. н. |
1500 |
6,7 × 10-4 |
|
Аграрно-ремесленный 1 |
10 000 л. н. |
2700 |
3,7 × 10-4 |
|
Аграрно-ремесленный 2 |
5300 до н. э. |
2300 |
4,3E-04 |
|
Аграрно-ремесленный 3 |
3000 до н. э. |
1500 |
6,7E-04 |
|
Аграрно-ремесленный 4 |
1500 до н. э. |
1300 |
7,7E-04 |
|
Аграрно-ремесленный 5 |
200 до н. э. |
1000 |
1,0E-03 |
|
Аграрно-ремесленный 6 |
800 н. э. |
630 |
1,6E-03 |
|
Промышленный 1 |
1430 |
170 |
5,9E-03 |
|
Промышленный 2 |
1600 |
130 |
7,7E-03 |
|
Промышленный 3 |
1730 |
100 |
1,0E-02 |
|
Промышленный 4 |
1830 |
60 |
1,7E-02 |
|
Промышленный 5 |
1890 |
39 |
2,6E-02 |
|
Промышленный 6 |
1929 |
26 |
3,8E-02 |
|
Научно-кибернетический 1 |
1955 |
40 |
2,5E-02 |
|
Научно-кибернетический 2 |
1995 |
|
|
Графическое
представление макротехнологической скорости роста
в соответствии с нашими временными рядами выглядит следующим образом (см. рис. 4):
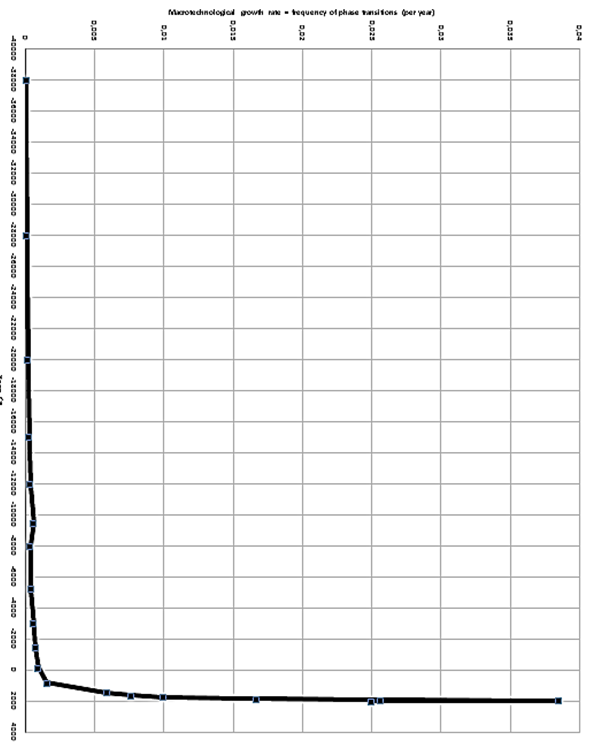
Рис. 4. Динамика темпов роста макротехнологий (= частота фазовых переходов в год), 40 000 л. н. до конца XX в.
Несложно заметить, что результирующая кривая безошибочно образует гиперболу и, как известно, гиперболическая функция имеет выраженную математическую сингулярность.
Пусть ось X представляет время до сингулярности (тогда как ось Y будет представлять скорость технологического роста). Вычислив дату сингулярности, мы можем получить такую гиперболическую кривую, которая описывала бы наши временные ряды наиболее точно. Результаты этого анализа представлены на рис. 5 (наш математический анализ определил дату сингулярности для этого временного ряда как 2018 г.):
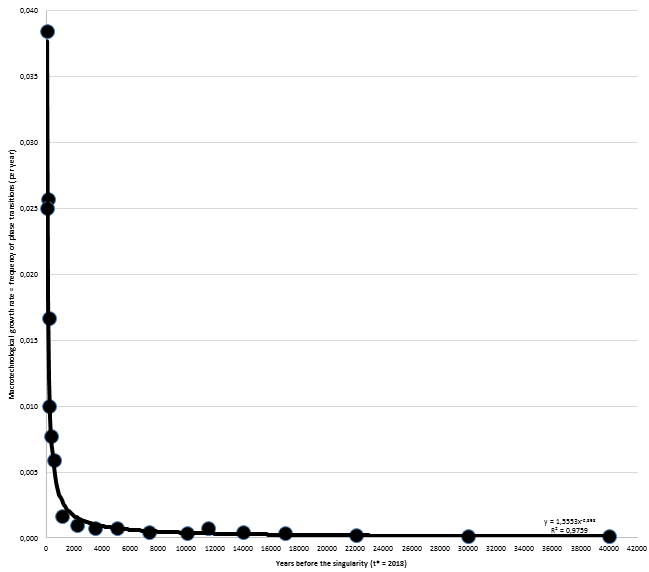
Рис. 5. Диаграмма рассеяния точек фазовых переходов, описанных в табл. 5, с подобранной степенной линией регрессии, где дата сингулярности определена как 2018 г. методом наименьших квадратов (натуральная шкала)
Ниже тот же рисунок представлен в двойной логарифмической шкале (см. рис. 6):
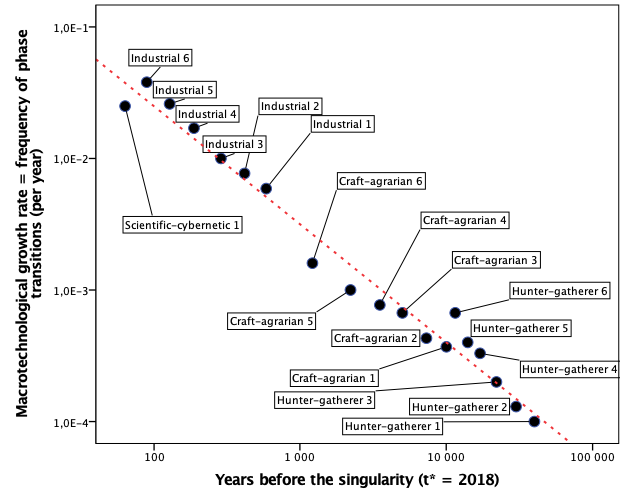
Рис. 6. Диаграмма рассеяния точек фазовых переходов, описанных в табл. 5, со встроенной линией степенной регрессии, где дата сингулярности определена как 2018 г. методом наименьших квадратов (двойная логарифмическая шкала)
Проанализируем результаты. Как мы видим, наша степенная регрессия по точкам данных фазовых переходов технологического роста, представленная выше в табл. 5, определила наиболее соответствующее уравнение, описывающее этот временной ряд с высокой точностью (R2 = 0,98):
 , (1)
, (1)
где Vt – скорость глобального макротехнологического развития, х – время, оставшееся до сингулярности, а 1,55 и 0,9 – постоянные.
Стоит обратить внимание, что показатель знаменателя (0,9) не так сильно отличается от 1; следовательно, есть некоторые основания использовать это уравнение в следующей упрощенной форме:
.png) , (2)
, (2)
где Vt – скорость глобального макротехнологического развития, x – время, оставшееся до сингулярности, а 1,55 – константа. Конечно, x (время, оставшееся до сингулярности) в момент времени t равно t* – t, где t* – время сингулярности. Таким образом,
х = t* – t.
Следовательно, уравнение (2) можно записать следующим образом:
.png) (3)
(3)
где Vt – глобальная скорость макротехнологического развития в момент времени t, t* – время сингулярности, а 1,55 – постоянная.
Вспомним, что наш анализ наименьших квадратов точек фазовых переходов, описанных в табл. 5, идентифицировал дату сингулярности как 2018 г. Таким образом, уравнение (3) может быть в дальнейшем переписано следующим образом:
.png) (4)
(4)
В более общем виде это может быть записано следующим образом:
.png) (5)
(5)
где C и t* – константы.
Обратите внимание, что алгебраическое уравнение типа:
.png) (5)
(5)
можно рассматривать как решение следующего дифференциального уравнения:
.png) (6)
(6)
(см., например: Korotayev, Malkov, Khaltourina 2006a: 118–120).
Следовательно, схема ускорения, подразумеваемая уравнением (4), может быть записана следующим образом:
.png) (7)
(7)
Таким образом, общая картина ускорения глобального технологического роста, которая довольно точно описывает точки данных фазовых переходов технологического роста, представленные выше в табл. 5 с моделью (4)/(5), может быть изложена следующим образом: на протяжении большей части человеческой истории (по крайней мере, после революции верхнего палеолита) увеличение макротехнологического темпа роста в разы сопровождалось увеличением скорости его ускорения; таким образом, двукратное увеличение скорости развития макротехнологий сопровождалось четырехкратным увеличением темпа ускорения развития; увеличение макротехнологической скорости развития в 10 раз, как правило, сопровождалось 100-кратным увеличением этой скорости развития; и так далее… на протяжении большей части человеческой истории (по крайней мере, после верхнепалеолитической революции, см. выше) увеличение скорости глобального макротехнологического развития в а раз сопровождается увеличением темпов его ускорения в а2; таким образом, двукратное увеличение скорости макротехнологического развития сопровождалось четырехкратным увеличением темпов ускорения; увеличение макротехнологической скорости развития в 10 раз, как правило, сопровождалось 100-кратным увеличением темпов этой скорости развития; и так далее…
Прошлое время используется в приведенном выше утверждении,
потому что глобальный технологический рост, по-видимому, не следовал этой модели
в последние десятилетия из-за вышеупомянутого замедления (в противном случае,
кстати, он стал бы бесконечным уже в 2018 г.).
С другой стороны, ниже мы обсудим возможность и последствия нового ускорения
глобального технологического роста.
О паттернах ускорения
Стоит обратить внимание, что довольно похожая схема ускорения была обнаружена ранее для ряда Модиса – Курцвейла «канонические вехи / скачки сложности» (Modis 2002; 2003; Kurzweil 2005), а также для ряда Панова «глобальные фазовые переходы / биосферные революции» (Панов 2005; Panov 2017; Korotayev 2018). Примечательно, что ряд Модиса – Курцвейла начинается с возникновения Млечного Пути 10 млрд л. н. и заканчивается появлением Интернета и секвенированием генома человека около 1995 г., тогда как серия Панова начинается с происхождения жизни на Земле 4 х 109 л. н. и заканчивается с информационной глобализацией от Панова до 1991 г. н. э.
Действительно, схема ускорения, обнаруженная в ряде Модиса – Курцвейла, описывается с точностью 99,89 % следующим уравнением:
.png) (8)
(8)
где y – скорость глобального макроразвития (число фазовых переходов в единицу времени), а 2029 г. – наиболее точная оценка точки сингулярности, упрощенная версия этой модели выглядит так:
.png) (9)
(9)
тогда как алгебраическое выражение можно рассматривать как решение для следующего дифференциального уравнения:
.png) (10)
(10)
С другой стороны, диаграмма ускорения, обнаруженная в серии Панова, описывается с точностью 99,91 % следующим уравнением (Korotayev 2018; Коротаев 2020б):
.png) (11)
(11)
Упрощенная версия этой модели выглядит так:
.png) (11)
(11)
тогда как такое алгебраическое уравнение можно рассматривать как решение следующего дифференциального уравнения, очень похожего на то, которое мы получили выше для ряда Модиса – Курцвейла, а также для нашего ряда технологических фазовых переходов:
.png) (12)
(12)
Можно увидеть, что все три ряда описываются точно очень схожей математической моделью с очень схожими параметрами, включая t* (временнáя точка сингулярности).
На самом деле это совсем не удивительно. Действительно, список «биосферных революций» / «фазовых переходов» Панова после революции верхнего палеолита выглядит следующим образом (Panov 2005: 221):
· Верхнепалеолитическая революция – 40 × 103 л. н.
· Неолитическая революция [Аграрная революция[11]] – 12–9 × 103 л. н.
· Городская революция (начало Древнего мира) – 4000–3000 гг. до н. э.
· Железный век, эпоха
империй, революция Осевого времени –
750 лет до н. э. Появление нового типа государственных образований – империй и
культурной революции. Новые виды мыслителей, таких как Заратустра, Сократ,
Будда и др.
· Начало Средневековья – 500 г. н. э.
· Начало современного периода, первая промышленная революция (начальная фаза промышленной революции) – 1500 г. н. э.
· Вторая промышленная революция (пар и электричество) [начало стадии зрелости и расширения принципа торгово-промышленного производства] – 1830 г.
· Информационная революция, начало постиндустриальной эпохи [начальная фаза кибернетической революции] – 1950 г. н. э.
Как можно видеть, в описании семи из восьми «биосферных» революций, определенных Пановым, он упоминает о связанных с ними основных технологических прорывах. То же самое в какой-то степени верно в отношении ряда Модиса – Курцвейла (Modis 2002; 2003; Kurzweil 2005). Таким образом, для обоих рядов относительно периода после 40 000 лет до н. э. канонические вехи / скачки сложности / глобальные фазовые переходы / биосферные революции в основном отождествлялись с крупными технологическими прорывами / фазовым переходом, поэтому неудивительно, что модели ускорения, обнаруженные в обеих сериях фазовых переходов, оказываются действительно очень похожими. С другой стороны, примечательно, что схема ускорения технологического роста, обнаруженная для периода после 40 000 л. н., хорошо соответствует схеме ускорения планетарной макроэволюции, определенной для периода с момента возникновения жизни на нашей планете до верхнего палеолита.
Здесь представляется уместным вспомнить о том, что в 1960 г. Х. фон Ферстер, П. Мора и Л. Амиот опубликовали в журнале Science сообщение об удивительном открытии (von Foerster et al. 1960). Они показали, что между 1 и 1958 г. н. э. динамика численности народонаселения мира (N) может быть с необычайно высокой точностью описана при помощи следующего поразительно простого уравнения:
.png) (13)
(13)
где Nt – это население мира в момент времени t, a C и t* – константы, при этом t* соответствует так называемой «демографической сингулярности».
Тот факт, что уравнение, которое так хорошо описывает динамику мирового населения, оказывается настолько близким к формуле динамики темпов глобального технологического роста, является логичным и означает, что в долгосрочной перспективе темпы глобального технологического роста должны быть пропорциональны численности населения мира. Отметим, что, как было продемонстрировано Р. Таагеперой (Taagepera 1976; 1979), М. Кремером (Kremer 1993), А. В. Подлазовым (2000; 2017) и С. В. Цирелем (Tsirel 2004), глобальные темпы технологического роста действительно пропорциональны численности населения мира (подробнее об этом см.: Коротаев 2020б).
Расчет сингулярности с учетом прогнозируемых
фаз принципа научно-кибернетического
производства
Как мы уже говорили выше, существуют разные способы оценки точки сингулярности в отношении теоретических подходов к прогнозированию будущего развития технического прогресса. Обратите внимание, что уравнение (1) выше было рассчитано на основе только эмпирически наблюдаемых данных. Тем не менее теория принципов производства позволяет спрогнозировать еще несколько точек данных.
Как мы продемонстрировали выше, есть основания ожидать, что вторая фаза научно-кибернетического принципа производства (модернизационная фаза кибернетической революции), которая началась в середине 1990-х гг., продлится приблизительно до 2030-х гг. В это время мы ожидаем наступления третьего этапа, соответствующего завершающей фазе кибернетической революции, которая, по нашему мнению, может стать эпохой саморегулируемых систем, то есть огромного расширения возможностей для целенаправленного воздействия на различные природные и производственные процессы и управления ими. Третий этап, как мы уже говорили, продлится приблизительно до 2055 г., после чего предполагается переход к четвертому этапу, который будет характеризоваться тем, что сформированный сектор саморегулируемых систем будет быстро улучшаться в течение следующих двух десятилетий и распространяться в различных областях с огромной скоростью.
В то же время
это должен быть период значительного роста продолжительности жизни.
Длительность двух последних этапов была оценена выше и составляет около 20 лет.
Это позволяет добавить в список эмпирических данных несколько прогнозируемых
точек, которые приведены
в табл. 6.
Табл. 6. Основные фазы принципов производства, их датировка, продолжительность и скорость технологического роста (для эмпирически наблюдаемых и прогнозируемых точек данных)
|
Фазовый
переход |
Дата начала |
Длина |
Скорость
макротехнологического развития (частота фазовых |
|
Охотничье-собирательский 1 |
40 000 BP |
10000 |
1,0 × 10–4 |
|
Охотничье-собирательский 2 |
30 000 BP |
8000 |
1,3 × 10–4 |
|
Охотничье-собирательский 3 |
22 000 BP |
5000 |
2,0 × 10–4 |
|
Охотничье-собирательский 4 |
17 000 BP |
3000 |
3,3 × 10–4 |
|
Охотничье-собирательский 5 |
14 000 BP |
2500 |
4,0 × 10–4 |
|
Охотничье-собирательский 6 |
11 500 BP |
1500 |
6,7 × 10–4 |
|
Аграрно-ремесленный 1 |
10 000 BP |
2700 |
3,7 × 10–4 |
|
Аграрно-ремесленный 2 |
5300 BCE |
2300 |
4,3 × 10–4 |
|
Аграрно-ремесленный 3 |
3000 BCE |
1500 |
6,7 × 10–4 |
|
Аграрно-ремесленный 4 |
1500 BCE |
1300 |
7,7 × 10–4 |
|
Аграрно-ремесленный 5 |
20 до н. э. |
1000 |
1,0 × 10–3 |
|
Аграрно-ремесленный 6 |
800 н. э. |
630 |
1,6 × 10–3 |
|
Промышленный 1 |
1430 |
170 |
5,9 × 10–3 |
|
Промышленный 2 |
1600 |
130 |
7,7 × 10–3 |
|
Промышленный 3 |
1730 |
100 |
1,0 × 10–2 |
|
Промышленный 4 |
1830 |
60 |
1,7 × 10–2 |
|
Промышленный 5 |
1890 |
39 |
2,6 × 10–2 |
|
Промышленный 6 |
1929 |
26 |
3,8 × 10–2 |
|
Научно-кибернетический 1 |
1955 |
40 |
2,5 × 10–2 |
|
Научно-кибернетический 2 |
1995 |
35 |
2,9 × 10–2 |
|
Научно-кибернетический 3 |
2030 |
25 |
4,0 × 10–2 |
|
Научно-кибернетический 4 |
2055 |
15 |
6,7 × 10–2 |
|
Научно-кибернетический 5 |
2070 |
10 |
1,0 × 10–1 |
|
Научно-кибернетический 6 |
2080 |
|
|
Математический анализ результирующих временных рядов дает следующие результаты (см. рис. 7):
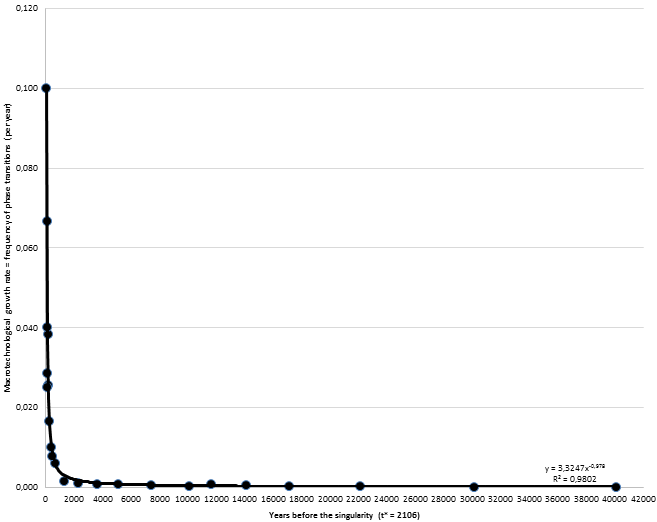
Рис. 7. Диаграмма рассеяния точек фазовых переходов (как эмпирически оцененных, так и прогнозируемых), описанных в Табл. 6, с подобранной степенной линией регрессии для даты сингулярности, определенной как 2106 г. методом наименьших квадратов (в натуральных цифрах)
Ниже тот же рисунок представлен в двойной логарифмической шкале (см. Рис. 8):
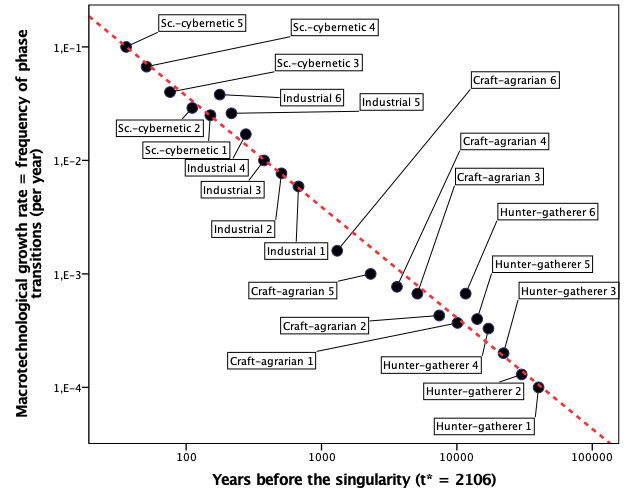
Рис. 8. Диаграмма рассеяния точек фазовых переходов (как эмпирически оцененных, так и прогнозируемых), описанных в табл. 6, с подобранной степенной линией регрессии для даты сингулярности, обозначенной как 2106 г. методом наименьших квадратов (двойная логарифмическая шкала)
Проанализируем новые результаты. Как мы видим, наша степенная регрессия по точкам данных фазовых переходов технологического роста, представленная выше в табл. 6 (которая включает в себя четыре прогнозируемых точки данных на основе предполагаемой новой волны ускорения глобального макротехнологического роста, прогнозируемого с помощью теории принципов производств), определила следующее уравнение наилучшего соответствия, описывающее этот временной ряд в довольно точном виде (R2 = 0.98):
.png) (14)
(14)
где Vt – скорость глобального макротехнологического развития, x – время, оставшееся до сингулярности, и 3.32 и 0.98 – константы.
Обратите внимание, что показатель знаменателя (0.98) оказывается гораздо ближе к 1, чем в случае с формулой (1); следовательно, можно использовать это уравнение в следующей упрощенной форме:
.png) (15)
(15)
где Vt – это скорость глобального макротехнологического развития, x – время, оставшееся до сингулярности, и 3.32 – константа.
Наконец, по результатам анализа методом наименьших квадратов точек фазовых переходов, описанных в Табл. 6, где дата сингулярности – 2106 г., уравнение (15) может быть записано следующим образом:
.png) (16)
(16)
Таким образом, если наш прогноз, основанный на теории принципов производства, верен, есть основания ожидать, что скорость глобального макротехнологического развития в течение следующих десятилетий вернется на некоторое время к гиперболической траектории – при точке сингулярности в 2106 г., а это означает, что в конце XXI и начале XXII в. скорость глобального макротехнологического развития будет испытывать еще одно снижение, и есть некоторые основания (которые будут изложены в следующем разделе данной статьи) ожидать, что это снижение будет гораздо более выраженным, чем в последние десятилетия.
5. ГЛОБАЛЬНОЕ СТАРЕНИЕ КАК ФАКТОР ВЛИЯНИЯ
НА СКОРОСТЬ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО РОСТА
Старение и технологический
прогресс:
положительная обратная связь
Мы считаем, что глобальное старение станет одним из важнейших факторов будущих десятилетий. В предыдущих работах мы показывали, что процесс глобального старения может развиваться и влиять на технологический прогресс, но ограничивались периодом до 2070-х гг. (Grinin L., Grinin A., Korotayev A. 2017a; см. также: Grinin L. E., Grinin A. L. 2015a; Гринин, Коротаев 2015; Grinin, Korotayev 2015b; Гринин Л. Е., Гринин А. Л. 2015б; 2015в; 2017). Настоящая статья является продолжением наших исследований корреляции между глобальным старением и технологическим развитием, которая позволяет значительно расширить горизонт предсказаний и получить новые результаты. Важный результат заключается в том, что глобальное старение может вызвать новый рост технологического развития, сменив его отраслевое направление, а после замедлить технологический рост, теперь уже изменяя траекторию его развития в целом. Мы рассмотрим, как глобальное старение в предстоящие десятилетия может стать одним из важнейших драйверов технологического прорыва до 2070–2080-х гг., а затем обсудим, почему глобальное старение станет препятствием для развития технологического прогресса.
По нашим расчетам, новый технологический прорыв, перерастающий в новую длительную инновационную волну, начнется ориентировочно в 2030-х гг., сначала в новых отраслях медицины и схожих сферах: био- и нанотехнологиях, аддитивных и когнитивных технологиях и др. Это также обозначит завершающую фазу кибернетической революции. Как мы отмечали ранее (Grinin L., Grinin A., Korotayev 2017a; 2020b), для начала такого прорыва в 2030-е гг. в сфере новейшей медицины в мире должны сложиться следующие предпосылки: взрывной рост пожилого населения; растущая потребность экономики в трудовых ресурсах и заинтересованность государства в повышении трудоспособности пожилых людей, а также растущее количество состоятельных и образованных людей, обеспокоенных своим здоровьем. Необходимы огромные финансовые ресурсы, которые тоже будут аккумулироваться в секторе технологического прорыва, а именно в пенсионных фондах, которые станут стремительно увеличиваться, необходимы государственные отчисления на здравоохранение и социальные нужды, увеличение расходов на здравоохранение со стороны стареющего населения и растущего мирового среднего класса. Все эти ресурсы способны обеспечить высокую инвестиционную привлекательность различных венчурных проектов и, в долгосрочной перспективе, широкий спрос на инновационные медицинские и другие технологии.
Мы уже отмечали, что в ходе кибернетической революции будет формироваться МАНБРИК-комплекс, в котором новые медицинские технологии станут играть интегрирующую роль. Это будет иметь двойной эффект: с одной стороны, отразится на увеличении продолжительности жизни, ее качестве и продлит лимит возраста физической активности. С другой стороны, проблема взрывного роста количества пожилых людей может обостриться, особенно из-за пенсионных расходов и нехватки рабочей силы. Как результат, медицинские технологии будут стремительно развиваться под влиянием стареющего населения (см. также: Phillips 2011), и это расширит поиски возможностей создания «умных», саморегулируемых систем, включая роботов, которые во многом заменят человеческий труд – особенно в секторе услуг (Frey, Osborne 2017), в том числе и сложные услуги, такие как, например, уход за пожилыми людьми, образование, медицина и т. д. (DeCanio 2016).
Таким образом, до последней трети нашего столетия старение населения не будет препятствовать технологическому и иному развитию. Напротив, сам процесс глобального старения станет движущей силой перемен, реформ и ускорения технологических инноваций. Ускоренное развитие ме-дицины, биотехнологий и некоторых других направлений также будет стимулироваться серьезными угрозами, реальность которых доказал COVID-19 (и отметим, что наибольшей опасности подвергались как раз люди старших возрастов).
Глобальное
старение и технологический
прогресс в последней трети XXI – начале XXII в.,
возможная отрицательная обратная связь
Связь между глобальным старением и технологическим прогрессом нелинейна. С одной стороны, позитивная обратная связь, о котором мы упоминали выше, вероятнее всего, сменится отрицательной. Почему? Для ответа необходимо отметить, что пожилые люди более консервативны, и это не столько популярное убеждение, сколько хорошо изученный научный факт (см., например: Гринин Л. Е., Гринин А. Л. 2017; Korotayev et al. 2017; Коротаев и др. 2018; см. также: Цирель 2008).
Конечно, мы не утверждаем, что пожилые люди абсолютно консервативны во всех отношениях, но в целом их потребность и стремление к инновациям ниже, чем у молодежи. Однако в таких областях, как фармацевтика и медицина, пожилые люди могут тяготеть к инновациям больше молодых. В некоторых работах авторы отмечают, что уровень изменений в когорте пожилых людей (60 лет и старше) выше, чем в более молодых когортах (Danigelis et al. 2007). Но, повторимся, это справедливо только для отдельных направлений. Наше исследование фокусируется на более широких аспектах: стремление к технологическим инновациям и потреблению новых товаров, адаптивности к ним. С точки зрения адаптации к технологическому прогрессу стремление к инновациям и скорость их освоения у пожилых людей развиты гораздо хуже, чем у молодых.
В любом случае психология пожилых людей очень отличается от психологии молодых, что проявляется в различных аспектах[12]. В целом приобретение новых навыков более затруднительно для пожилых людей (см., например: Земнякова, Помуран 2014; о сложности у пожилых людей адаптации к Интернету см.: Нескромных, Мамадалиев 2017). К тому же в труде, где требуются физические данные и такие качества, как быстрота реакции, скорость, память и т. п., например, люди в возрасте 40–65 лет менее продуктивны по сравнению с работниками в возрасте 20–40 лет [Goldstone 2015], чья производительность труда стремительно увеличивается с ростом опыта и образования (Lee, Mason 2011)[13], не говоря уже о людях старше 65 лет.
Что касается потребления, пожилые люди, которые уже повидали многое в жизни, во многом теряют тягу к новым вещам, в отличие от молодых.
Ситуация в японской экономике, где пропорция пожилых растет, а молодых – резко снижается, подтверждает этот факт. Такая демографическая структура населения не может способствовать более или менее заметному экономическому росту. Экономика Японии страдает от слабого роста ВВП и дефляции, длящейся уже более двух с половиной десятилетий, из-за пожилого населения, которое не хочет тратить много денег и предпочитает экономить. Не удивительно, что настроение в Японии довольно подавленное (Coleman, Rowthorn 2015: 31; Ogawa et al. 2005; Coulmas 2007; Grinin, Korotayev 2014b; 2017; 2018).
Вдобавок к замедляющемуся потреблению в обществе пожилого населения такой мощный двигатель развития, как стремление к карьерному росту, благополучию и успеху, тоже будет затихать. С уменьшением числа детей инвестиции в молодое поколение и необходимость их обеспечения, что является еще одним важным фактором развития общества, будут ослабевать.
Отдел народонаселения ООН довольно уверенно прогнозирует, что к концу этого столетия значительного прироста населения не будет наблюдаться в подавляющем большинстве стран мира, а во многих из них произойдет сокращение численности населения (UN Population Division 2019), в то время как в целом в истории рост населения всегда был важнейшим фактором развития (Kuznets 1960; Boserup 1965; Grossman, Helpman 1991; Aghion, Howitt 1992; 1998; Simon 1977; 1981; 2000; Komlos, Nefedov 2002; Jones 1995; 2003; 2005; Korotayev, Malkov, Khaltourina 2006a; 2006b; Khaltourina et al. 2006; Kapitza 1996; 2003; 2006; 2010; Гринин Л. Е., Гринин А. Л. 2015в; 2017; Grinin L. E., Grinin A. L. 2016; Grinin et al. 2014; 2015; Korotayev, Markov 2015; Korotayev 2005; 2007a; 2012; 2013; 2018; Dolgonosov 2016; Fomin 2019).
Поэтому вполне вероятно, что через 50–70 лет, то есть к концу XXI столетия, ситуация в мире существенно изменится даже в тех обществах, где сейчас наблюдаются «молодежные бугры» и высокий уровень рождаемости, то есть во многих странах Тропической Африки (Korotayev, Zinkina 2014; 2015; Zinkina, Korotayev 2014a; 2014b; Гринин Л. Е., Гринин А. Л. 2015в; 2017).
Количество пожилых людей будет увеличиваться в долгосрочной перспективе повсеместно. Таким образом, в следующие десятилетия общественное поведение изменится (см.: Grinin L., Grinin A., Korotayev 2017a). Это, вероятно, совпадет с периодом перехода к определенной социальной стабильности после завершения кибернетической революции. Однако, безусловно, возможны и другие сценарии: например, в случае климатических ухудшений может произойти некоторая социальная деградация.
Таким образом, не исключено, что старение общества вместе с улучшением возможности планирования облегчит переход общества к более спокойному и замедленному развитию (устойчивому развитию, о котором столько говорят) и к концу века или в начале XXII в. оно, вполне вероятно, начнет влиять уже на замедление научно-технологического развития[14]. Это будет, так сказать, естественно-историческое замедление, поскольку никаких механизмов контроля над темпами научно-технического прогресса нет. А так как ускоряться бесконечно оно не может (наступает точка сингулярности для процесса), интересно предположить, что именно старение населения может стать естественным способом несколько его притормозить, чтобы перейти на более спокойные рельсы развития.
6. ЗАКЛЮЧЕНИЕ. ПЕРЕХОД К
НОВОЙ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ
Переход к управляемому развитию и конец
экономической модели потребления?
Указанный консерватизм может вызвать не только замедление темпов развития, но и переход на иную систему экономики. Современная модель связана с ростом потребления. Сегодня потреблять больше, чем вчера, а завтра – больше, чем сегодня – таков девиз современной жизни, который диктует экономика. Это во многом абсурдная модель, как абсурдным кажется иногда стремление к неуклонному росту ВВП, однако она работает и еще будет работать в течение десятилетий, тем более для бедных стран, которые не удовлетворены потреблением. Старение населения может изменить потребности людей, стабилизация численности населения или ее уменьшение – тем более.
Трансформация экономической модели потребления будет трудным процессом, который может изменить очень многое. Но в целом кибернетическая революция и старение должны в итоге перевести общество на новую экономическую модель потребления. Если мы уйдем от необходимости наращивать потребление, то и модель роста в экономике должна быть иная, нежели сегодня, вероятно, она будет включать какие-то параметры качества жизни. Соответственно, и бизнес-модели могут меняться, хотя пока не очень ясно, как именно.
Завершая статью, можно сказать, что наша математическая модель имеет большое сходство с раннее предложенными, что заставляет предполагать объективное наличие довольно простой гиперболической закономерности ускорения глобального макроэволюционного развития, наблюдаемого на Земле в течение последних 4 миллиардов лет. В то же время видно, что грядущий технологический рост не будет бесконечным, он ожидаемо замедлится в начале следующего столетия, главным образом из-за фактора старения, положительная обратная связь которого сменится отрицательной.
Библиография
Авдусин Д. А. 1989. Основы археологии. М.: Высшая школа.
Алексеев В. П. 1984. Становление человечества. М.: Политиздат.
Алексеев В. П. 1986. Этногенез. М.: Высшая школа.
Антонов Е. В. 1982. Примечания к кн.: Мелларт Дж. Древнейшие цивилизации Ближнего Востока. М.: Наука.
Анучин В. А. 1982. Географический фактор в развитии общества. М.: Мысль.
Бакс К. 1986. Богатства земных недр. М.: Прогресс.
Барг М. А. 1991. Цивилизационный подход к истории. Коммунист 3: 27–35.
Березкин Ю. Е. 2007а. Мифы заселяют Америку. Ареальное распределение фольклорных мотивов и ранние миграции в Новый Свет. М.: ОГИ.
Березкин Ю. Е. 2007б. О структуре истории: временные и пространственные составляющие. История и Математика: Концептуальное пространство и на-правления поиска / Ред. П. В. Турчин, Л. Е. Гринин, С. Ю. Малков, А. В. Коротаев, с. 88–98. М.: ЛКИ/URSS.
Березкин Ю. Е. 2013. Между общиной и государством. Среднемасштабные общества Нуклеарной Америки и Передней Азии в исторической динамике. СПб.: Наука.
Бернал Дж. 1956. Наука в истории общества. М.: Наука.
Борисковский П. И. 1980. Древнейшее прошлое человечества. М.: Наука.
Величко А. А. 1989. Соотношение изменений климата в высоких и низких широтах Земли в позднем плейстоцене и голоцене. Палеоклиматы и оледенения в плейстоцене / Ред. А. А. Величко, Е. Е. Гуртовая, М. А. Фаустова, с. 5–19. М.: Наука.
Виноградов И. В. 2000. Новое царство в Египте и поздний Египет. История
Востока. 1: Восток в древности /
Ред. В. А. Якобсон, с. 370–432. М.: Вост. лит-ра.
Голдстоун Дж. 2014. Почему Европа? Возвышение Запада в мировой истории, 1500–1850. М.: Изд-во Ин-та Гайдара.
И. П. Герасимов, с. 196–215. М.: Наука.
Гринин Л. Е. 1996. Периодизация исторического процесса: дис. … канд. ист. наук. М.: МГУ.
Гринин Л. Е. 2000. Производительные силы и исторический процесс. М.: Теис.
Гринин Л. Е. 2003. Производительные силы и исторический процесс. 2-е изд. Волгоград: Учитель.
Гринин Л. Е. 2006а. Производительные силы и исторический процесс. 3-е изд. М.: КомКнига.
Гринин Л. Е. 2006б. Методологические основания периодизации истории. Философские науки 8: 117–129; 9: 127–130.
Гринин Л. Е. 2009. Государство и исторический процесс: Политический срез исторического процесса. М.: ЛИБРОКОМ/URSS.
Гринин Л. Е. 2010. Государство и исторический процесс: Эволюция государственности: От раннего государства к зрелому. 2-е изд., испр. М.: Либроком/URSS.
Гринин Л. Е. 2011. Государство и исторический процесс. Эпоха формирования государства: Общий контекст социальной эволюции при образовании государства. М.: ЛИБРОКОМ.
Гринин Л. Е. 2012. Кондратьевские волны, технологические уклады и теория производственных революций. Кондратьевские волны: аспекты и перспективы: ежегодник / Отв. ред. А. А. Акаев, Р. С. Гринберг, Л. Е. Гринин, А. В. Коротаев, С. Ю. Малков, с. 222–262. Волгоград: Учитель.
Гринин Л. Е. 2013. Динамика кондратьевских волн в свете теории производственных революций. Кондратьевские волны: палитра взглядов: ежегодник / Отв. ред. Л. Е. Гринин, А. В. Коротаев, С. Ю. Малков, с. 31–83. Волгоград: Учитель.
Гринин Л. Е. 2016. Государство и исторический процесс. Эволюция государственности: От раннего государства к зрелому. 3-е изд. М.: URSS.
Гринин
Л. Е., Гринин А. Л. 2015а.
От рубил до нанороботов. Мир на пути
к эпохе самоуправляемых систем (история технологий и описание их будущего).
М.: Моск. ред. изд-ва «Учитель».
Гринин Л. Е., Гринин А. Л. 2015б. Кибернетическая революция и шестой технологический уклад. Кондратьевские волны: наследие и современность: ежегодник / Отв. ред. Л. Е. Гринин, А. В. Коротаев, В. М. Бондаренко, с. 83–106. Волгоград: Учитель.
Гринин Л. Е., Гринин А. Л. 2015в. Кибернетическая революция, глобальное старение и шестой технологический уклад. XXIII Кондратьевские чтения: тупики глобальной экономики, поиск новой научной парадигмы: сб. статей участников конференции, с. 89–105. М.: Межрегиональная общественная организация содействия изучению, пропаганде научного наследия Н. Д. Кондратьева.
Гринин Л. Е., Гринин А. Л. 2017. Влияние процесса глобального старения на темпы научно-технического прогресса и изменение модели потребления. Научное наследие Н. Д. Кондратьева и современность: сб. науч. тр. X Международной Кондратьевской конференции, посвященной 125-летию со дня рождения Н. Д. Кондратьева, с. 98–111. М.: Межрегиональная общественная организация содействия изучению, пропаганде научного наследия Н. Д. Кондратьева.
Гринин Л. Е., Коротаев А. В. 2015. Глобальное старение населения, шестой технологический уклад и мировая финансовая система. Кондратьевские волны: наследие и современность / Ред. Л. Е. Гринин, А. В. Коротаев, В. М. Бондаренко, с. 107–132. Волгоград: Учитель.
Гринин Л. Е., Коротаев А. В., Малков С. Ю. 2008. Математические модели социально-демографических циклов и выхода из «мальтузианской ловушки»: некоторые возможные направления дальнейшего развития. Проблемы математической истории. Математическое моделирование исторических процессов / Отв. ред. Г. Г. Малинецкий, А. В. Коротаев, с. 78–117. М.: ЛИБРОКОМ.
Гринин Л. Е., Коротаев А. В., Марков А. В. 2012. Биологическая и социальная фазы макроэволюции: сходства и различия эволюционных принципов и механизмов. Эволюция: аспекты современного эволюционизма / Ред. Л. Е. Гринин, А. В. Коротаев, А. В. Марков, с. 130–176. М.: ЛКИ.
Гуляев В. И. 1972. Древнейшие цивилизации Мезоамерики. М.: Наука.
Гуревич А. Я. 1969. Об исторической закономерности. Философские проблемы исторической науки / Ред. А. В. Гулыга, Ю. А. Левада, с. 51–79. М.: Наука.
Данилова Л. В. 1981. Природные и социальные факторы производительных сил на докапиталистических стадиях общественного развития. Общество и природа: исторические этапы и формы взаимодействия / Ред. М. П. Ким, с. 109–124. М.: Наука.
Деопик Д. В. 1977. Регион Юго-Восточной Азии с древнейших времен до XV в. Юго-Восточная Азия в мировой истории / Ред. С. Н. Ростовский и др., с. 9–69. М.: Наука.
Дмитриев М. В. 1992. Генезис капитализма как альтернатива исторического развития. Альтернативность истории / Ред. Р. В. Манекин, с. 132–165. Донецк: Донецкое отделение САМИ.
Долуханов П. М. 1979. География каменного века. М.: Наука.
Дэвис Н. 2005. История Европы. М.: АСТ, Транзиткнига.
Земнякова М. А., Помуран М. Н. 2014. Специфика проблем адаптации пожилых людей в современном российском обществе. Социологические науки 3. URL: https://cyberleninka.ru/article/v/spetsifika-problem-v-protsesse-adaptatsii-pozhilyh-lyudey-v-sovrem....
Зубов А. А. 1963. Человек заселяет свою планету. М.: География.
Зубов А. А. 2002. Некоторые спорные моменты в традиционных взглядах на формирование физического типа американских индейцев. История и семиотика индейских культур Америки / Ред. А. А. Бородатова, В. А. Тишков, с. 388–399. М.: Наука.
Исламов
Т. М., Фрейдзон В. И. 1986. Переход от феодализма к капитализму
в Западной, Центральной и Юго-Восточной Европе. Новая и новейшая история 1:
83–96.
Ким М. П. 1981. Природное и социальное в историческом процессе. Общество и природа: исторические этапы и формы взаимодействия / Ред. М. П. Ким, с. 5–28. М.: Наука.
Колосовская Ю. К., Шкунаев С. В. 1988. Кельты в Европе в первой половине I тыс. до н. э. История Европы. 1. Древняя Европа / Ред. Е. С. Голубцова, с. 203–212. М.: Наука.
Короновский Н. В., Якушова А. Ф. 1991. Основы геологии. М.: Высшая школа.
Коротаев А. В. 2020a. Математический анализ сингулярности XXI века в контексте Большой истории. Эволюция: Эволюционные грани сингулярности / Отв. ред. Л. Е. Гринин, А. В. Коротаев, с. 19–79. Волгоград: Учитель.
Коротаев А. В. 2020б. О взаимосвязи между формулой увеличения планетарной сложности и уравнением гиперболического роста численности населения Земли. Эволюция: Эволюционные грани сингулярности / Отв. ред. Л. Е. Гринин, А. В. Коротаев, с. 245–262. Волгоград: Учитель.
Коротаев А. В., Божевольнов Ю. В. 2010. Некоторые общие тенденции экономического развития Мир-Системы. Прогноз и моделирование кризисов и мировой динамики / Ред. А. А. Акаев, А. В. Коротаев, Г. Г. Малинецкий, с. 161–172. М.: ЛКИ/УРСС.
Коротаев А. В., Шульгин С. Г., Зинькина Ю. В., Новиков К. Е. 2018. Влияние старения населения на глобальную систему ценностей и политическую динамику. М.: РАНХИГС. URL: http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3139641.
Крамер С. Н. 1965. История начинается в Шумере. М.: Наука.
Кульпин Э. С. 1990. Человек и природа в Китае. М.: Наука.
Кульпин Э. С. 1996. Бифуркация Запад-Восток. М.: Московский лицей.
Липс Ю. 1954. Происхождение вещей. М.: Ин. лит-ра.
Любин В. П. 1970. Нижний палеолит. Каменный век на территории СССР / Ред. А. А. Формозов, с. 19–42. М.: Наука.
Манту П. 1937. Промышленная революция XVIII столетия в Англии. М.: Соцэкгиз.
Марков А. В. 2011а. Эволюция человека: в 2 т. Т. 1. Обезьяны, кости и гены. М.: Астрель, Corpus.
Марков А. В. 2011б. Эволюция человека: в 2 т. Т. 2. Обезьяны, нейроны и душа. М.: Астрель, Corpus.
Марков А. В. 2012. Антропогенез – особая статья глобальной истории. Универсальная и глобальная история. Эволюция Вселенной, Земли, жизни и общества / Ред. Л. Е. Гринин, И. В. Ильин, А. В. Коротаев, с. 295–314. Волгоград: Учитель.
Марков Г. Е. 1979. История хозяйства и первобытной культуры в первобытнообщинном и раннеклассовом обществе. М.: МГУ.
Массон В. М. 1967. Первобытное земледелие. Возникновение и развитие земледелия / Ред. В. Д. Блаватский, А. В. Никитин, с. 5–32. М.: Наука.
Массон В. М. 1980. Раннеземледельческие общества и формирование поселений городского типа. Ранние земледельцы. Этнографические очерки / Ред. Н. А. Бутинов, А. М. Решетов, с. 178–185. Л.: Наука.
Массон В. М. 1989. Первые цивилизации. Л.: Наука.
Матюшин Г. Н. 1972. У колыбели истории. М.: Просвещение.
Мелларт Дж. 1982. Древнейшие цивилизации Ближнего Востока. М.: Наука.
Мильская Л. Т., Рутенбург В. И. 1993. История Европы: в 8 т. Т. 3. От Средневековья к Новому времени (конец XV – первая половина XVII в.). М.: Наука.
Монгайт А. Л. 1973. Археология Западной Европы. Каменный век. М.: Наука.
Мочанов Ю. Л. 1977. Древнейшие этапы заселения человеком Северо-Восточной Азии. Новосибирск: Наука.
Нескромных Н. И., Мамадалиев А. М. 2017. Стратегии адаптивного поведения лиц пожилого возраста в интернет-пространстве. Медиакультура 1. URL: https://cyberleninka.ru/article/v/strategii-adaptivnogo-povedeniya-lits-pozhilogo-vozrasta-v-interne....
Оппенхейм А. 1990. Древняя Месопотамия. М.: Наука.
Панов А. Д. 2004. Автомодельный аттрактор социально-биологической эволюции на Земле и гипотеза самосогласованного галактического происхождения жизни. Бюллетень Научно-культурного центра SETI Академии космонавтики им. К. Э. Циолковского 7(24): 4–21.
Панов А. Д. 2005. Сингулярная точка истории. Общественные науки и современность 1: 122–137.
Панов А. Д. 2006. Сингулярность Дьяконова. История и Математика: Проблемы периодизации исторических макропроцессов / Ред. Л. Е. Гринин, А. В. Коротаев, С. Ю. Малков, c. 31–37. М.: КомКнига.
Панов А. Д. 2008. Универсальная эволюция и проблема поиска внеземного разума (SETI). М.: ЛКИ/URSS.
Панов А. Д. 2009. Наука как явление эволюции. Эволюция: космическая, биологическая, социальная / Ред. Л. Е. Гринин, А. В. Марков, А. В. Коротаев, с. 99–127. М.: ЛИБРОКОМ.
Панов А. Д. 2013. Макроэволюция и наука. Науковедческие исследования. М.: Российская академия наук, Ин-т информации по общественным наукам.
Подлазов А. В. 2000. Теоретическая демография как основа математической истории. М.: ИПМ РАН.
Подлазов А. В. 2017. Теория глобального демографического процесса. Вестник Российской академии наук 6: 520–531.
Придо T. 1979. Кроманьонский человек. M.: Мир.
Ренфрю К. 2002. Индоевропейская проблема и освоение евразийских степей: вопросы хронологии. Вестник древней истории 2: 20–32.
Семенов С. А. 1968. Развитие техники в каменном веке. Л.: Наука.
Сергеева В. Г. 1983. Вопросы заселения Америки и трансокеанских контактов в трудах Хуана Комаса. Пути развития зарубежной этнологии / Ред. Ю. В. Бром-лей, с. 138–151. М.: Наука.
Спенсер Г. 1899. Основания социологии. Киев; Харьков; СПб.: Изд-во Иогансона.
Файнберг Л. А. 1986. Раннепервобытная община охотников, собирателей, рыболовов. История первобытного общества. Эпоха первобытной родовой общины / Ред. Ю. В. Бромлей, с. 130–235. М.: Наука.
Харлан Д. Р. 1986. Ресурсная база основных растительных культур Иранского плато и соседних регионов. Древние цивилизации Востока / Ред. В. М. Массон, с. 199–201. Ташкент: ФАН.
Холл Ф. 1986. Происхождение и развитие земледелия. Древние цивилизации Востока / Ред. В. М. Массон, с. 201–204. Ташкент: ФАН.
Хотинский Н. А. 1989. Ландшафтно-климатические изменения в позднеледниковое время на территории СССР. Палеоклиматы и оледенения в плейстоцене / Ред. А. А. Величко, Е. Е. Гуртовая, М. А. Фаустова, с. 39–46. М.: Наука.
Хут Л. Р. 2010. Теоретико-методологические проблемы изучения истории Нового времени в отечественной историографии рубежа XX–XXI вв. М.: МГПУ.
Цирель С. В. 2008. Историческое время и пути исторической эволюции. История и Математика: Модели и теории / Ред. С. Ю. Малков, Л. Е. Гринин, А. В. Коротаев, с. 246–278. М.: ЛКИ/URSS.
Чайлд Г. 1949. Прогресс и археология. М.: Гос. изд-во ин. лит-ры.
Чубаров В. В. 1991. Ближневосточный локомотив: темпы развития техники и технологии в древнем мире. Архаическое общество: узловые проблемы социологии / Ред. А. В. Коротаев, В. В. Чубаров, с. 92–135. М.: Ин-т истории СССР АН СССР.
Шнирельман В. А. 1989. Возникновение производящего хозяйства. М.: Наука.
Шнирельман В. А. 2012а. Возникновение производящего хозяйства: Рычаги древнейшего земледелия. 2-е изд., доп. М.: Либроком.
Шнирельман В. А. 2012б. Происхождение скотоводства: Культурно-историческая проблема. 2-е изд., доп. М.: Либроком.
Янин В. Л. (Ред.). 2006. Археология. М.: МГУ.
Ярыгин В. Н., Васильева В. И., Волков И. Н., Синельщикова В. В. 1999. Биология. М.: Высшая школа.
Ясаманов Н. А. 1985. Древние климаты Земли. Л.: Гидрометеоиздат.
Ястребицкая А. Л. 1993. Материальная культура и образ жизни в Европе на исходе Средневековья. История Европы: в 8 т. Т. 3. От Средневековья к Новому времени (конец XV – первая половина XVII в.) / Ред. Л. Т. Мильская, В. И. Рутенбург, с. 16–40. М.: Наука.
Abu-Lughod J. 1989. Before European Hegemony: The World System AD 1250–1350. New York: Oxford University Press.
Acemoglu D., Johnson S., Robinson J. A. 2005. The Rise of Europe: Atlantic Trade, Institutional Change and Economic Growth. American Economic Review 95: 546–579.
Adams R. M. 1981. Heartland of Cities. Chicago: University of Chicago Press.
Aghion P., Howitt P. 1992. A Model of Growth through Creative Destruction. Econometrica 60: 323–352.
Aghion P., Howitt P. 1998. Endogenous Growth Theory. Cambridge, MA: MIT Press.
Allen R. C. 2009. The British Industrial Revolution in Global Perspective. Cambridge: Cambridge University Press.
Ammerman A. J., Cavalli-Sforza L. L. 2014. The Neolithic Transition and the Genetics of Populations in Europe. Princeton, NJ: Princeton University Press.
Armengaud A. 1976. Population in Europe 1700–1914. The Industrial Revolution, 1700–1914. London; New York: Harvester Press, Barnes & Noble.
Armytage W. H. G. 1961. A Social History of Engineering. London: Faber and Faber.
Ayres R. U. 2006. Did the Fifth K-Wave Begin in 1990–92? Has it been Aborted by
Globalization? Kondratieff Waves, Warfare and World Security / Ed. by T.
C. Deve-
zas, pр. 57–71. Amsterdam: IOS Press.
Balter M. 2006. The Goddess and the Bull. Catalhoyuk: An Archaeological Journey to the Dawn of Civilization. Walnut Creek, CA: Left Coast Press.
Bar-Yosef O. 2002. The Upper Paleolithic Revolution. Annual Review of Anthropology 31: 363–393.
Barone S. 1993. The Civilization of Europe in the Renaissance. London.
Benson I., Lloyd J. 1983. New Technology and Industrial Change: The Impact of the Scientific-Technical Revolution on Labour and Industry. London; New York, NY: Kogan Page; Nichols.
Bentley J. H. 1996. Shapes of World History in Twentieth Century Scholarship.Essays on Global and Comparative History. Washington, DC: American Historical Association.
Bergsvik K. A., Ritchie K. 2018. Mesolithic Fishing in Western Norway. Subsistence Strategies in the Stone Age, Direct Evidence of Fishing and Gathering. Materials of the International Conference Dedicated to the 50th Anniversary of Vladimir Mikhailovich Lozovski, 15–18 May, 2018 / Ed. by O. Lozovskaya, A. Vybornov, E. Dolbunova, pp. 35–36. St Petersburg: Institute for the History of Material Culture and the State Hermitage Museum.
Berlanstein L. R. (Ed.). 1992. The Industrial Revolution and Work in Nineteenth-Century Europe. London: Routledge.
Bernal J. D. 1965. Science in History. 3rd ed. New York: Hawthorn Books.
Bernbeck R., Pollock S. 2005. A Cultural-Historical Framework. Archaeologies of the Middle East: Critical Perspectives / Ed. by S. Pollock, R. Bernbeck, pp. 11–40. Oxford: Blackwell.
Bloch M. 1935. Avènement et conquêtes du moulin à eau. Annales d’histoire économique et sociale 7: 538–563.
Bondarenko
D. M. 2006. Homoarchy: A Principle of Culture’s Organization.
The 13th – 19th Centuries Benin Kingdom as a Non-State Supercomplex Society. Moscow:
KomKniga.
Boserup E. 1965. The Conditions of Agricultural Growth: The Economics of Agrarian Change under Population Pressure. Chicago, IL: Aldine.
Boussac M.-F., Salles J.-F., Yon J.-B. (Eds.). 2016. Ports of the Ancient Indian Ocean. Delhi: Primus Books.
Boxer Ch. R. 1965. The Dutch Seaborne Empire 1600–1800. New York, NY: Alfred A. Knopf.
Braudel F. 1973. Capitalism and Material Life, 1400–1800. New York, NY: Harper and Row.
Bryner J. 2008. Egyptian Tomb Holds First Known Domesticated Donkeys. Live Science March 11. URL: http://www.foxnews.com/story/2008/03/11/egyptian-tomb-holds-first-known-domesticated-donkeys/.
Bunch B. H., Hellemans A. 2004. The History of Science and Technology: A Browser's Guide to the Great Discoveries, Inventions, and the People Who Made Them, from the Dawn of Time to Today. New York: Houghton Mifflin Harcourt.
Cameron R. 1989. A Concise Economic History of the World: From Paleolithic Times to Present. New York: Hill Wang.
Caldwell J. C. 2006. Demographic Transition Theory. Dordrecht: Springer.
Callaghan V., Miller J., Yampolskiy R., Armstrong S. 2017. Technological Singularity. Dordrecht: Springer. DOI: 10.1007/978-3-662-54033-6.
Carree M. A. 2003. Technological Progress, Structural Change and Productivity Growth: A Comment. Structural Change and Economic Dynamics 14(1): 109–115. URL: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0954349X02000358.
Carus-Wilson E. 1941. An Industrial Revolution of the Thirteenth Century. Economic History Review 11: 39–60.
Chase-Dunn Ch., Hall T. D. 1997. Rise and Demise: Comparing World-Systems. Boulder, CO: Westview Press.
Chase-Dunn C., Hall T. D. 2011. East and West in World-Systems Evolution. Andre Gunder Frank and Global Development: Visions, Remembrances, and Explorations / Ed. by P. Manning, B. Gills, pp. 97–119. Routledge, London.
Chase-Dunn C., Manning S. 2002. City Systems and World-Systems: Four Millennia of City Growth and Decline. Cross-Cultural Research 36(4): 379–398.
Chase-Dunn C., Niemeyer R., Alvarez A., Inoue H., Love J. 2010. Cycles of Rise and Fall, Upsweeps and Collapses: Changes in the Scale of Settlements and Polities since the Bronze Age. History & Mathematics: Processes and Models of Global Dynamics / Ed. by L. E. Grinin, P. Herrmann, A. V. Korotayev, A. Tausch, pp. 64–91. Volgograd: Uchitel.
Chen Chun, Gong Xin. 2018. Erlitou and Xia: A Dispute between Chinese and Overseas Scholars. Social Evolution & History 17(2): 205–234.
Chernykh E. N. 1992. Ancient Metallurgy in the USSR: The Early Metal Age. Cambridge: Cambridge University Press.
Chesnais J. C. 1992. The Demographic Transition: Stages, Patterns, and Economic Implications. Oxford: Clarendon Press.
Chew S. C. 2014. The Southeast Asian Connection in the First Eurasian World Economy 200 BC – AD 500. Journal of Globalization Studies 5(1): 82–109.
Chew S. C. 2016. From the Nanhai to the Indian Ocean and Beyond: Southeast Asia in the Maritime ‘Silk’ Roads of the Eurasian World Economy 200 BC – AD 500. Paper presented at IROWS-ISA Workshop: Systemic Boundaries, March 5, Riverside. URL: https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&a....
Childe G. 1952. New Light on the Most Ancient East. 4th ed. London: Routledge & Paul.
Coleman D., Rowthorn R. 2015. Population Decline – Making the Best of Inevitable Destiny? History & Mathematics: Political Demography and Global Ageing, pp. 26–41. Volgograd: Uchitel.
Conte C., Ibáñez Estévez J. J., Gibaja Bao J. F., Mazzucco N., Terradas X., Mozota Holgueras M., Borrell F. 2018. Cereal Use-Wear Traces and Harvesting Methods. Subsistence Strategies in the Stone Age, Direct Evidence of Fishing and Gathering. Materials of the International Conference Dedicated to the 50th Anniversary of Vladimir Mikhailovich Lozovski 15–18 May 2018 / Ed. by O. V. Lozovskaya, A. A. Vybornov, E. V. Dolbunova, pp. 192–193. St. Petersburg: Institute for the History of Material Culture and the State Hermitage Museum.
Collins J. B., Taylor K. L. (Eds.). 2006. Early Modern Europe, Issues and Interpretations. Malden, MA: Blackwell.
Costin C. L. 2005. The Study of Craft Production. Handbook of Archaelogical Methods / Ed. by H. D. Maschner, C. Chippindale, pp. 1032–1105. Lamham: AltaMira Press.
Costin C. L. 2015. Craft Specialization. The International Encyclopedia of Human Sexuality / Ed. by P. Whelehan, А. Bolin, pp. 1–5. N. p.: John Wiley & Sons, Inc.
Coulmas F. 2007. Population Decline and Ageing in Japan – The Social Consequences. London; New York: Routledge.
d'Errico F., Backwell L. 2005. From Tools to Symbols: From Early Hominids to Modern Humans. Johannesburg: Wits University Press.
Danigelis N. L., Hardy M., Cutler S. J. 2007. Population Ageing, Intracohort Ageing and Socio-Political Attitudes. American Sociological Review 72(5): 812–830.
Davies N. 1996. Europe: A History. Oxford: Oxford University Press.
Davies N. 2001. Heart of Europe: The Past in Poland's Present. Oxford: Oxford University Press.
DeCanio S. J. 2016. Robots and Humans – Complements or Substitutes? Journal of Macroeconomics 49: 280–291.
De Grey A., Rae M. 2008. Ending Ageing: The Rejuvenation Breakthroughs that Could Reverse Human Ageing in Our Lifetime. New York: St. Martin’s Press.
Dillehay T. D., Rossen J., Ugent D., Karathanasis A., Vásquez V., Netherly P. J. 2010. Early Holocene Coca Chewing in Northern Peru. Antiquity 84(326): 939–953.
Dolgonosov B. M. 2016. Knowledge Production and World Population Dynamics. Technological Forecasting and Social Change 103: 127–141.
Duistermaat
K. 2017. The Organization of Pottery Production,
Toward a Relational Approach. The Oxford
Handbook of Archeological Ceramic Analysis / Ed. by
A. Hunt, pp. 114–147. Oxford: Oxford University Press.
Dyson T. 2010. Population and Development. The Demographic Transition. London: Zed Books.
Eden A. H., Moor J. H., Søraker J. H., Steinhart E. (Eds.). 2012. Singularity Hypotheses: A Scientific and Philosophical Assessment. Berlin: Springer.
Farmer J. D., Lafond F. 2015. How Predictable is Technological Progress? URL: http://arxiv.org/abs/1502.05274.
Ferguson N. 2011. Civilization: The West and the Rest. New York: The Penguin Press.
Foerster H. von, Mora P. M., Amiot L. W. 1960. Doomsday: Friday, 13 November, AD 2026. Science 132(3436): 1291–1295.
Fomin A. 2019. Hyperbolic Evolution from Biosphere to Technosphere. The 21st Century Singularity and Global Futures. A Big History Perspective / Ed. by A. Korotayev, D. LePoire, pp. 83–94. Cham: Springer.
Forbes R. J. 1956. Power. A History of Technology. The Mediterranean Civilizations and the Middle Ages, c. 700 B.C. to c. A.D. 1500. Vol. 2 / Ed. by Ch. Singer et al., pp. 601–606. London: Oxford University Press.
Frey C. B., Osborne M. A. 2017. The Future of Employment: How Susceptible are Jobs to Computerisation? Technological Forecasting and Social Change 114: 254–280.
Fukuyama F. 2002. Our Posthuman Future: Consequences of the Biotechnology Revolution. New York: Picador.
Galor O., Tsiddon D. 1997. Technological Progress, Mobility and Economic Growth. The American Economic Review 87(3): 363–382.
Galor O., Weil D. N. 2000. Population, Technology, and Growth: From Malthusian Stagnation to The Demographic Transition and Beyond. American Economic Review 90(4): 806–828.
Gille B. 1969. The Problems of Power and Mechanization. A History of Technology and Invention: Progress through the Ages. Vol. 1. The Origins of Technological Civilization / Ed. by M. Daumas. New York, NY.
Gimpel J. 1992. The Medieval Machine: The Industrial Revolution of the Middle Ages. 2nd ed. London: Pimlico.
Goldstone J. A. 2009. The Origins of Capitalism and the Rise of the West. The British Journal of Sociology 60(3): 651–653.
Goldstone J. A. 2012. Is Islam Bad for Business? Perspectives on Politics
10(1):
97–102.
Goldstone J. A. 2015. Population Ageing and Global Economic Growth. History and Mathematics: Political Demography and Global Ageing / Ed. by J. Goldstone, L. E. Grinin, A. Korotayev, pp. 147–155. Volgograd: Uchitel.
Goldstone J. A., Grinin L. E., Korotayev A. V. 2015. Introduction, Research into Global Ageing and Its Consequences. History & Mathematics: Political Demography and Global Ageing / Ed. by J. A. Goldstone, L. E. Grinin, A. V. Korotayev, pp. 5–9. Volgograd: Uchitel Publishing House.
Goring-Morris A. N., Hovers E., Belfer-Cohen A. 2009. The Dynamics of Pleistocene and Early Holocene Settlement Patterns and Human Adaptations in the Levant – an Overview. Transitions in Prehistory: Essays in Honor of Ofer Bar-Yosef / Ed. by J. J. Shea, D. E. Lieberman, pp. 185–252. Oxford: Oxbow Books for the American School of Prehistoric Research.
Goring-Morris A. N., Belfer-Cohen A. 2017. The Early and Middle Epipalaeolithic of Cisjordan. Quaternary Environments, Climate Change, and Humans in the Levant / Ed. by Y. Enzel, O. Bar-Yosef, pp. 639–649. Cambridge: Cambridge University Press.
Griffin E. 2010. Short History of the British Industrial Revolution. New York: Palgrave Macmillan.
Grinin
L. E. 2006. Periodization of History: A Theoretic-Mathematical
Analysis. History & Mathematics: Analyzing and Modeling Global Development / Ed. by L. E. Gri-
nin, V. de Munck, A. V. Korotayev, pp. 10–38. Moscow: KomKniga.
Grinin L. E. 2007a. Production Revolutions and Periodization of History: A Comparative and Theoretic-Mathematical Approach. Social Evolution & History 6(2): 11–55.
Grinin L. E. 2007b. Production Revolutions and the Periodization of History. Herald of the Russian Academy of Sciences 77(2): 150–156.
Grinin L. E. 2011. The Evolution of Statehood. From Early State to Global Society. Saarbrücken: Lambert Academic Publishing.
Grinin L. E. 2012. Macrohistory and Globalization. Volgograd: Uchitel.
Grinin L. E. 2017. The Processes of Systemic Integration in the World System. Journal of Globalization Studies 8(1): 97–118.
Grinin
L. E., Grinin A. L. 2013a. Global Technological Transformations. Globalistics and Globalization Studies: Theories, Research &
Teaching. Yearbook / Ed. by
L. E. Grinin, I. V. Ilyin, A. V. Korotayev, pp. 98–128. Volgograd: Uchitel.
Grinin
L. E., Grinin A. L. 2013b. Macroevolution of Technology. Evolution:
Deve-lopment within Big History, Evolutionary and World-System Paradigms /
Ed. by
L. E. Grinin, A. V. Korotayev, pp. 143–178. Volgograd: Uchitel.
Grinin
L. E., Grinin A. L. 2014. The Sixth Kondratieff
Wave and the Cybernetic Re-volution. Kondratieff
Waves, Juglar – Kuznets – Kondratieff, Yearbook / Ed. by
L. E. Grinin, T. C. Devezas, A. V. Korotayev, pp. 354–378. Volgograd: Uchitel.
Grinin L. E., Grinin A. L. 2015а. The Cybernetic Revolution and Historical Process. Social Evolution and History 14(1): 125–184.
Grinin L. E., Grinin A. L. 2015b. Global Technological Perspectives in the Light of Cybernetic Revolution and Theory of Long Cycles. Journal of Globalization Studies 6(2): 119–142.
Grinin L. E., Grinin A. L. 2016. The Cybernetic Revolution and the Forthcoming Epoch of Self-Regulating Systems. Moscow: Moscow Branch of the Uchitel Publishing House.
Grinin L. E., Grinin A. L., Korotayev A. 2017a. Forthcoming Kondratieff Wave, Cybernetic Revolution, and Global Ageing. Technological Forecasting & Social Change 115: 52–68.
Grinin L., Grinin A., Korotayev A. 2017b. The MANBRIC-Technologies in the Forthcoming Technological Revolution. Industry 4,0 – Entrepreneurship and Structural Change in the New Digital Landscape: What is Coming on Along with the Fourth Industrial Revolution / Ed. by T. Devezas et al., pp. 243–261. N. p.: Springer.
Grinin L., Grinin A., Korotayev A. 2020a. The 21st Century Singularity and Global Futures. World-Systems Evolution and Global Futures / Ed. by D. LePoire, A. Korotayev. N. p.: Springer.
Grinin L., Grinin A., Korotayev A. 2020b. A Quantitative Analysis of Worldwide Long-term Technology Growth: From 40,000 BCE to the Early 22nd Century. Technological Forecasting and Social Change 155.
Grinin L. E., Ilyin I. V., Andreev A. I. 2016. World Order in the Past, Present, and Future. Social Evolution and History 15(1): 58–84.
Grinin L. E., Korotayev A. V. 2009. The Epoch of the Initial Politogenesis. Social Evolution & History 8(1): 52–91.
Grinin L. E., Korotayev A. V. 2010. Will the Global Crisis Lead to Global Transformations. 1. The Global Financial System: Pros and Cons. Journal of Globalization Studies 1(1): 70–89.
Grinin
L., Korotayev A. 2012. The Afroeurasian
World-System: Genesis, Transformations, Characteristics. Routledge Handbook of World-Systems Analysis / Ed. by
S. J. Babones, Ch. Chase-Dunn, pp. 30–41. London; New York, NY: Routledge.
Grinin L. E., Korotayev A. V. 2013a. Globalization and the World System Evolution. Evolution: Development within Big History, Evolutionary and World-System Paradigms / Ed. by L. E. Grinin, A. V. Korotayev, pp. 30–68. Volgograd: ‘Uchitel’ Publishing House.
Grinin
L. E., Korotayev A. V. 2013b. The Origins of Globalization. Globalization,
Yesterday, Today, and Tomorrow / Ed. by J. Sheffield, A. Korotayev, L.
Grinin,
pp. 1–29. Litchfield Park, AZ: Emergent Publications.
Grinin L., Korotayev A. 2014a. Origins of Globalization in the Framework of the Afroeurasian World-System History. Journal of Globalization Studies 5(1): 32–64.
Grinin L. E., Korotayev A. V. 2014b. The Inflation and Deflationary Trends in the Global Economy, or “the Japanese Disease” is Spreading. Journal of Globalization Studies 5(2): 154–173.
Grinin L. E., Korotayev A. V. 2015a. Great Divergence and Great Convergence: A Global Perspective. N. p.: Springer.
Grinin L. E., Korotayev A. V. 2015b. Global Population Ageing, the Sixth Kondratieff Wave, and the Global Financial System. History & Mathematics: Political Demography & Global Ageing / Ed. by J. A. Goldstone, L. E. Grinin, A. V. Korotayev, pp. 81–106. Volgograd: Publishing House ‘Uchitel’.
Grinin L., Korotayev A. 2016a. Global Population Ageing, the Sixth Kondratieff Wave, and the Global Financial System. Journal of Globalization Studies 7(2): 11–31.
Grinin L. E., Korotayev A. V. 2016b. Introduction, Global Evolution and Global Ageing. Evolution and Big History 2016: 5–17.
Grinin L. E., Korotayev A. V. 2017. Inflationary and Deflationary Trends in the Global Economy, or Expansion of “the Japanese Disease”. History & Mathematics: Economy, Demography, Culture, and Cosmic Civilizations. Volgograd: Uchitel Publishing House.
Grinin L. E., Korotayev A. V. 2018. The Future of the Global Economy in the Light of Inflationary and Deflationary Trends and Long Cycles Theory. World Futures 74(2): 84–103.
Grinin L. E., Korotayev A. V., Tausch A. 2016. Economic Cycles, Crises, and the Global Periphery. Cham: Springer.
Grinin L. E., Markov A. V., Korotayev A. V. 2014. Mathematical Modeling of Biological and Social Evolutionary Macrotrends. History & Mathematics: Trends and Cycles / Ed. by L. Grinin, A. Korotayev, pp. 9–48. Volgograd: Uchitel.
Grinin
L. E., Markov A. V., Korotayev A. V. 2015.
Modeling of Biological and Social Phases of Big History. Evolution: From Big Bang to
Nanorobots / Ed. by
L. Grinin, A. Korotayev, pp. 111–150. Volgograd: ‘Uchitel’ Publishing House.
Grossman G., Helpman E. 1991. Innovation and Growth in the Global Economy. Cambridge: MIT Press.
Gupta A. K. 2004. Origin of Agriculture and Domestication of Plants and Animals Linked to Early Holocene Climate Amelioration. Current Science 87(1): 54–59.
Harding A. F. 2011. The Bronze Age, Ch. 10. European History / Ed. by S. Milisauskas, pp. 405–460. New York: Springer-Verlag.
Harris
M. 1997. Culture,
People, Nature: An Introduction to General Anthropology.
7th ed. New York, NY: Longman.
Harris
D., Hillman G. 1989. An Evolutionary Continuum
of People-Plant Interaction. Foraging and
Farming. The Evolution of Plant Exploitation / Ed. by D. R. Harris,
G. C. Hillman, pp. 11–27. London:
Unwin Hyman.
He Nu. 2018. Archaeological Indicators for Chinese Early States: A Case Study of Taosi in Shanxi. Social Evolution & History 17(2): 205–234.
Hill Ch. 1955. The English Revolution, 1640. 3rd ed. London: Lawrence & Wishart.
Hruby Z., Flad R. (Eds.). 2007. Rethinking Craft Specialization in Complex Societies: Archaelogical Analyses of Social Meaning of Production. Archaelogical Papers of the American Anthropological Association 17(1).
Huebner J. 2005. A Possible Declining Trend for Worldwide Innovation. Technological Forecasting and Social Change 72: 980–986.
Israel J. I. 1995. The Dutch Republic, Its Rise, Greatness, and Fall, 1477–1806. Oxford: Clarendon Press.
Jarrige J.-F. 1977. Nouvelles recherches archéologiques au Baluchistan: les fouilles de Mehrgarh. La Plateau Iranien et l'Asie Centrale des Origines a la Conquete Islamique / Ed. by J. Deshayes, pp. 79–94. Paris: CNRS.
Jasim S. A. 1983. Excavations at Tell Abada. A Preliminary Report. Iraq 45(2): 165–186.
Jochim M. A. 2011a. The Lower and Middle Paleolithic (ch. 4). European History / Ed. by S. Milisauskas, pp. 31–65. New York: Springer-Verlag.
Jochim M. A. 2011b. The Misolithic (ch. 6). European History / Ed. by S. Milisauskas, pp. 125–151. New York: Springer-Verlag.
Jochim M. A. 2011c. The Upper Paleolithic. European History / Ed. by S. Milisauskas, pp. 67–124. New York: Springer-Verlag.
Johnson A. H. 1955. Europe in the Sixteenth Century: 1494–1598. London: Rivingtons.
Jones C. I. 1995. R&D-based Models of Economic Growth. The Journal of Political Economy 103: 759–784.
Jones C. I. 2003. Population and Ideas: A Theory of Endogenous Growth, Knowledge, Information, and Expectations in Modern Macroeconomics. In Honor of Edmund S. Phelps / Ed. by P. Aghion, R. Frydman, J. Stiglitz, M. Woodford, pp. 498–521. Princeton, NJ: Princeton University Press.
Jones C. I. 2005. The Shape of Production Functions and the Direction of Technical Change. The Quarterly Journal of Economics 120: 517–549.
Jones J. R. 1996. The Anglo-Dutch Wars of the Seventeenth Century. London; New York, NY: Longman.
Kapitza S. P. 1996. The Phenomenological Theory of World Population Growth. Physics-Uspekhi 39(1): 57–71.
Kapitza
S. P. 2003. The Statistical Theory of Global
Population Growth. Formal Descriptions of
Developing Systems / Ed. by J. B. Nation, I. Trofimova, J. D. Rand,
W. Sulis, pp. 11–35. Dordrecht: Springer.
Kapitza S. P. 2006. Global Population Blow-up and After. Global Marshall Plan Initiative. Hamburg.
Kapitza S. P. 2010. On the Theory of Global Population Growth. Physics-Uspekhi 53(12): 1287–1296.
Kayal A. 1999. Measuring the Pace of Technological Progress: Implications for Technological Forecasting. Technological Forecasting and Social Change 60(3): 237–245.
Khaltourina D., Korotayev A., Malkov A. 2006. A Compact Macromodel of the World System Demographic and Economic Growth, 1–1973 CE. Cybernetics and Systems. Vol. 1 / Ed. by R. Trappl, pp. 330–335. Vienna: Austrian Society for Cybernetic Research.
Kish L. B. 2002. End of Moore's Law: Thermal (Noise) Death of Integration in Micro and Nano Electronics. Physics Letters, Section A: General, Atomic and Solid State Physics 3–4: 144–149.
Koh H., Magee C. L. 2006. A Functional Approach for Studying Technological Progress: Application to Information Technology. Technological Forecasting and Social Change 73(9): 1061–1083.
Komlos J., Nefedov S. 2002. A Compact Macromodel of Pre-Industrial Population Growth. Historical Methods 35: 92–94.
Korotayev A. 2005. A Compact Macromodel of World System Evolution. Journal of World-Systems Research 11(1): 79–93. DOI: 10.5195/jwsr.2005.401.
Korotayev A. V. 2006a. The World System History Periodization and Mathematical Models of Socio-historical Processes. History & Mathematics: Analyzing and Mo-deling Global Development / Ed. by L. Grinin, V. C. de Munck, A. Korotayev, pp. 39– 98. Moscow: KomKniga/URSS.
Korotayev A. 2006b. The World System Urbanization Dynamics: A Quantitative Ana-lysis. History & Mathematics: Historical Dynamics and Development of Complex Societies / Ed. by P. Turchin, L. Grinin, A. Korotayev, V. C. de Munck, pp. 44–62. Moscow: KomKniga/URSS.
Korotayev A. 2007a. Compact Mathematical Models of World System Development, and How They Can Help Us to Clarify Our Understanding of Globalization Processes. Globalization as Evolutionary Process: Modeling Global Change / Ed. by G. Mo-delski, T. Devezas, W. R. Thompson, pp. 133–160. London: Routledge.
Korotayev A. 2007b. Secular Cycles and Millennial Trends: A Mathematical Model. Mathematical Modeling of Social and Economic Dynamics / Ed. by M. G. Dmitriev, A. P. Petrov, N. P. Tretyakov, pp. 118–125. Moscow: RUDN.
Korotayev A. 2008. Globalization and Mathematical Modeling of Global Development. Hierarchy and Power in the History of Civilizations: Political Aspects of Modernity / Ed. by L. E. Grinin, D. D. Beliaev, A. V. Korotayev, pp. 225–240. Moscow: LIBROCOM/URSS.
Korotayev A. 2009. Compact Mathematical Models of the World System Development and Their Applicability to the Development of Local Solutions in Third World Countries. Systemic Development: Local Solutions in a Global Environment / Ed. by J. Sheffield, pp. 103−116. Litchfield Park, AZ: ISCE Publishing.
Korotayev A. 2012. Globalization and Mathematical Modeling of Global Development. Globalistics and Globalization Studies 1: 148–158.
Korotayev A. 2013. Globalization and Mathematical Modeling of Global Evolution. Evolution: Development within Big History, Evolutionary and World-System Paradigms / Ed. by L. E. Grinin, A. V. Korotayev, pp. 69–83. Volgograd: Uchitel.
Korotayev A. 2018. The 21st Century Singularity and Its Big History Implications: A Re-analysis. Journal of Big History 2(3): 73–119.
Korotayev A. V., Grinin L. E. 2006. Urbanization and Political Development of the World System: A Comparative Quantitative Analysis. History and Mathematics. Historical Dynamics and Development of Complex Societies / Ed. by P. Turchin, L. Grinin, V. C. de Munck, A. Korotayev, pp. 115–153. Moscow: URSS.
Korotayev A. V., Grinin L. E. 2012. Kondratieff Waves in the World System Perspective. Kondratieff Waves, Dimensions and Prospects at the Dawn of the 21st Century / Ed. by L. E. Grinin, T. C. Devezas, A. V. Korotayev, pp. 23–64. Volgograd: Uchitel.
Korotayev A., Grinin L. 2013. Urbanization and Political Development of the World System. ENTELEQUIA Revista Interdisciplinar 15: 197–254.
Korotayev A. V., Grinin L. E. 2017. The Technological Activity and Competition in the Middle Ages and Modern History: A Quantitative Analysis. History & Mathematics: Economy, Demography, Culture, and Cosmic Civilizations / Ed. by L. E. Grinin, A. V. Korotayev, pp. 78–102. Volgograd: ‘Uchitel’ Publishing House.
Korotayev A., Malkov A., Khaltourina D. 2006a. Introduction to Social Macrodynamics: Compact Macromodels of the World System Growth. Moscow: KomKniga/URSS.
Korotayev A., Malkov A., Khaltourina D. 2006b. Introduction to Social Macrodynamics: Secular Cycles and Millennial Trends. Moscow: KomKniga/URSS.
Korotayev A. V., Markov A. V. 2015. Mathematical Modeling of Biological and Social Phases of Big History. Globalistics and Globalization Studies 4: 319–343.
Korotayev A., Zinkina J. 2014. How to Optimize Fertility and Prevent Humanitarian Catastrophes in Tropical Africa. African Studies in Russia 6: 94–107.
Korotayev A., Zinkina J. 2015. East Africa in the Malthusian Trap? Journal of Deve-loping Societies 31(3): 1–36.
Korotayev A., Zinkina J., Andreev A. 2016. Secular Cycles and Millennial Trends. Cliodynamics 7: 204–216.
Korotayev A., Zinkina J., Kobzeva S., Bozhevolnov J., Khaltourina D., Malkov A., Malkov S. 2011. A Trap at the Escape from the Trap? Demographic-Structural Factors of Political Instability in Modern Africa and West Asia. Cliodynamics 2(2): 276–303.
Korotayev А. V., Zinkina J. V., Shulgin S. G. 2017. Why are Older People More Religious than Younger Ones? Cohort and Age Factors, or the Future of Religious Values in Economically Developed Countries. Religious Studies 3(3): 134–144.
Kremer M. 1993. Population Growth and Technological Change: One Million B. C. to 1990. The Quarterly Journal of Economics 108(3): 681–716.
Kurzweil R. 2001. The Law of Accelerating Returns. KurzweilAI.net 3-7-2001. URL: http://www.kurzweilai.net/articles/art0134.html?printable=1.
Kurzweil R. 2005. The Singularity is Near. London: Viking Penguin.
Kuznets S. 1960. Population Change and Aggregate Output. Demographic and Economic Change in Developed Countries. Princeton: Princeton University Press.
Lamberg-Karlovsky C. C., Sabloff J. A. 1979. Ancient Civilizations. The Near East and Mesoamerica. Menlo Park: Benjamin/Cummings Publishing.
LePoire D. J. 2005. Application of Logistic Analysis to the History of Physics. Technological Forecasting and Social Change 72(4): 471–479. DOI: 10.1016/S0040-1625(03)00044-1.
LePoire D. J. 2009. Exploration of Connections between Energy Use and Leadership Transitions, Systemic Transitions. New York: Palgrave Macmillan. DOI: 10.1057/ 9780230618381_10.
LePoire D. 2013. Potential Economic and Energy Indicators of Inflection in Complexity. Evolution 3: 108–118.
LePoire D., Korotayev A. (Eds.) 2020. World-Systems Evolution and Global Futures. N. p.: Springer.
Lee R., Mason A. 2011. Population Aging and the Generational Economy: A Global Perspective. London: Edward Elgar.
Li Shuicheng. 2018. The Mace-head: A Significant Evidence of the Early Cultural Interaction between West and East. Social Evolution & History 17(2): 258–272.
Lilley S. 1976. Technological Progress and the Industrial Revolution, 1700–1914. The Industrial Revolution, 1700–1914. The Fontana Economic History of Europe. Vol. 3 / Ed. by C. M. Cipolla, pp. 187–254. New York, NY: The Harvest Press Limited; Barnes & Noble.
Livi-Bacci M. 2012. A Concise History of World Population. Chichester: Wiley-Blackwell.
Londo J. P., Yu-Chung Chiang, Kuo-Hsiang Hung, Tzen-Yuh Chiang, Schaal B. A. 2006. Phylogeography of Asian Wild Rice, Oryza rufipogon, Reveals Multiple Independent Domestications of Cultivated Rice, Oryza sativa. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America (PNAS) 103/25: 9578–9583. URL: http://www.pnas.org/content/103/25/9578.long.
Lucas A. R. 2005. Industrial Milling in the Ancient and Medieval Worlds. A Survey of the Evidence for an Industrial Revolution in Medieval Europe. Technology and Culture 46(1): 1–30.
Maddison A. 2007. Contours of the World Economy, 1–2030. Oxford: Oxford University Press.
Magee
C. L., Devezas T. C. 2011. How Many Singularities
are Near and How will They Disrupt Human History? Technological Forecasting and Social Change 78(8): 1365–1378. URL:
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S00401625110
01661.
March
R. J. 2013. Searching for the Functions of Fire
Structures in Eynan (Malahha) and Their Formation Processes; A Geochemical
Approach. Archaelogical Series. Vol. 19. Natufian
Foragers in Levant: Terminal Pleistocene Social Changes in Westen Asia. International Monographs in Prehistory
/ Ed. by O. Bar-Yosef, F. R. Valla,
pp. 227–283. Ann Arbor: Berghahn Books.
Marks
A. E. 1993. The Early Upper Paleolithic: The View
from the Levant. Before Lascaux: The
Complete Record of the Early Upper Paleolithic / Ed. by H. Knecht,
A. Pike-Tay, R. White, pp. 5–22. Boca Raton: CRC Press.
McNeill W. H. 1963. The rise of the West; a history of the human community. Chicago: University of Chicago Press.
Meadows J. R. S., Cemal I., Karaca O. et al. 2007. Five Ovine Mitochondrial Lineages Identified From Sheep Breeds of the Near East. Genetics 175: 1371–1379. URL: http://www.genetics.org/content/175/3/1371.full.
Mellars P., Boyle K., Bar-Yosef O., Stringer C. (Eds.). 2007. Rethinking the Human Revolution. Cambridge: McDonald Institute for Archaeological Research; University of Cambridge.
Mellars P., Stringer C. (eds.). 1989. The Human Revolution: Behavioural and Biological Perspectives on the Origins of Modern Humans. Princeton, NJ: Princeton University Press.
Mellaart J. 1975. The Neolithic of the Near East. London: Thames and Hudson.
Milisauskas S. (Ed.). 2011a. European Prehistory: A Survey. Buffalo, NY: Springer.
Milisauskas S. (Ed.). 2011b. Early Neolithic, The first Farmers in Europe, 7000–7500/5000 BC. European Prehistory / Ed. by S. Milisauskas, pp. 153–221. New York: Springer.
Milisauskas
S., Kruk J. 2011a. Middle Neolithic, Continuity, Diversity, Innovations, and Greater
Complexity, 5500/5000/3000 BC. European
Prehistory / Ed. by S. Mili-
sauskas, pp. 293–325. New York: Springer.
Milisauskas S., Kruk J. 2011b. Late Neolithic, Crisis, Collapse, New Ideologies, and Economics, 3500/3000–2200/2000 BC. European Prehistory / Ed. by S. Milisauskas, pp. 327–403. New York: Springer.
Minghinton W. 1976. Patterns of Demand 1750–1914. The Industrial Revolution, 1700–1914 / Ed. by С. M. Cipolla, pp. 77–186. London; New York: Harvester Press, Barnes & Noble.
Modis T. 2002. Forecasting the Growth of Complexity and Change. Technological Forecasting and Social Change 69(4): 377–404. DOI: 10.1016/S0040-1625(01) 00172-X.
Modis T. 2003. The Limits of Complexity and Change. The Futurist 37(3): 26–32.
Modis T. 2005. Discussion of Huebner Article. Technological Forecasting and Social Change 72: 987–1000.
Modis T. 2006. The Singularity Myth. Technological Forecasting & Social Change 73(2): 104–112.
Mokyr J. (Ed.). 1993. The British Industrial Revolution: An Economic Perspective. Boulder, CO: Westview.
Mokyr J. (Ed.). 1999. The British Industrial Revolution: An Economic
Perspective.
2nd ed. Boulder, CO: Westview Press.
Muehlhauser L., Salamon A. 2012. Singularity Hypotheses, Singularity Hypotheses: A Scientific and Philosophical Assessment. URL: http://link.springer.com/10.1007/978-3-642-32560-1.
Mumford L. 1934. Technics and Civilization. New York, NY: Harcourt, Brace & Co.
Nagy B. 2011. Superexponential Long-Term Trends in Information Technology. Technological Forecasting and Social Change 78(8): 1356–1364. DOI: 10.1016/J.TEC HFORE.2011.07.006.
Nazaretyan A. P. 2015. Megahistory and Its Mysterious Singularity. Herald of the Russian Academy of Sciences 85(4): 352–361. DOI: 10.1134/S1019331615040061.
Nazaretyan A. P. 2016. Non-Linear Futures: The “Mysterious Singularity” in View of Mega-History. Between Past Orthodoxies and the Future of Globalization, Contemporary Philosophical Problems / Ed. by A. N. Chumakov, W. C. Gay, pp. 171–191. Boston: Brill-Rodopi.
Nazaretyan A. P. 2017. Mega-History and the Twenty-First Century Singularity Puzzle. Social Evolution & History 16(1): 31–52.
Nazaretyan A. P. 2018. The Polyfurcation Century: Does the Evolution on Earth Have a Cosmological Relevance? Journal of Big History 2(1): 27–41. DOI: 10.223 39/jbh.v2i1.2253.
Ogawa N., Kondo M., Matsukura R. 2005. Japan’s Transition from the Demographic Bonus to the Demographic Onus. Asian Population Studies 1(2): 207–226.
Oppenheim L. A. 1968. Ancient Mesopotamia, Portrait of a Dead Civilization. Chicago; London: The University of Chicago Press.
Panov A. D. 2005. Scaling Law of the Biological Evolution and the Hypothesis of the Self-Consistent Galaxy Origin of Life. Advances in Space Research 36(2): 220–225. URL:https://doi.org/10.1016/j.asr.200503.0.01.
Panov
A. D. 2011. Post-singular Evolution and Post-singular
Civilizations. A Big History Perspective.
Evolution / Ed. by L. E. Grinin, A.
V. Korotayev, B. H. Rodrigue,
pp. 212–231. Volgograd: Uchitel.
Panov A. D. 2017. Singularity of Evolution and Post-Singular Development. A Big History Anthology. Vol. III. The Ways that Big History Works: Cosmos, Life, Society and our Future. From Big Bang to Galactic Civilizations / Ed. by B. Rodrigue, L. Grinin, A. Korotayev, pp. 370–402. Delhi: Primus Books.
Park
D., Shin K. 2015. Impact of Population Ageing on
Asia's Future Growth. History & Mathematics: Political Demography and Global Ageing / Ed. by J.
Goldstone,
L. E. Grinin, A. V. Korotayev, pp. 107–132. Volgograd: Uchitel.
Phillips F. 2011. The State of Technological and Social Change: Impressions. Technological Forecasting and Social Change 78(6): 1072–1078. URL: http://dx.doi.org/ 10.1016/j.techfore.2011.03.020.
Pirenne H. 1920–1932. Histoire de Belgique. Vol. I–VII. Bruxelles: H. Lamertin.
Pollock S. 2001. Ancient Mesopotamia. Cambridge, UK: Cambridge University Press.
Porter D. (Ed.). 2012. Comparative Early Modernities 1100–1800. New York: Palgrave-Macmillan.
Postan
M. 1987. The Trade of
Medieval Europe: The North. The Cambridge
Economic History of Europe. Vol. II. Trade
and Industry in the Middle Ages / Ed. by
M. M. Postan, E. Miller, pp. 168–305. Cambridge: Cambridge University Press.
Powell A., Shennan S., Thomas M. G. 2009. Late Pleistocene Demography and the Appearance of Modern Human Behavior. Science 324(5932): 1298–1301.
Prettner K. 2013. Population Aging and Endogenous Economic Growth. Journal of Population Economics 26(2): 811–834.
Quilter
K., Ojeda B. E., Pearsall D. M., Sandweiss D. H., Jones J. G., Wing E. S. 1991.
Subsistence Economy in El Paraiso, an Early Peruvian
Site. Science 251:
277–283.
Rayner R. M. 1964. European History 1648–1789. New York: David McKay Company, Inc.
Rietbergen P. J. A. N. 2002. A Short History of the Netherlands. From Prehistory to the Present Day. 5th ed. Amersfoort: Bekking.
Ritchie K., Hufthammer A. K., Bergsvik K. A. 2016. Fjord Fishing in Mesolithic Western Norway. Environmental Archaeology 21(4): 309–316.
Roberts N. 1998. The Holocene: An Environmental History. Oxford: Blackwell.
Roux
V. 2017. Ceramic Manufacture. The Chaîn Operátory
Approach. The Oxford Handbook of
Archeological Ceramic Analysis. Ch. 8 / Ed. by A. M. W. Hunt,
pp. 103–113. Oxford: Oxford University Press.
Schultz E. A., Lavenda R. H. 1998. Anthropology. A Perspective on the Human Condition. 2nd ed. Mayfield, Mountain View.
Shanahan M. 2015. The Technological Singularity. Cambridge: MIT Press.
Shea J. J. 2007. Behavioral Differences between Middle and Upper Paleolithic Homo Sapiens in the East Mediterranean Levant: The Role of Intraspecific Competition and Dispersal from Africa. Journal of Anthropological Research 63: 449–488.
Shea J. 2013. Stone Tools in the Paleolithic and Neolithic Near East: A Guide. Stony Brook; NY: Stony Brook University.
Simon J. 1977. The Economics of Population Growth. Princeton: Princeton University Press.
Simon J. 1981. The Ultimate Resource. Princeton: Princeton University Press.
Simon J. 2000. The Great Breakthrough and its Cause. Ann Arbor: University of Michi-gan Press.
Simmons T. 2013. Avifauna of the Final Natufian of Eynan. Natufian Foragers in Levant: Terminal Pleistocene Social Changes in Western Asia / Ed. by O. Bar-Yosef, F. R. Valla, pp. 284–292. Ann Arbor: International Monographs in Prehistory
Singer С. 1941. A Short History of Science to the Nineteenth Century. Oxford: Oxford University Press.
Snooks G. D. 1997. The Ephemeral Civilization.Exploding the Myth of Social Evolution. London; New York, NY: Routledge.
Sood A., Tellis G. J. 2005. Technological Evolution and Radical Innovation. Journal of Marketing 69(3): 152–168. DOI: 10.1509/jmkg.69.3.152.66361.
Taagepera R. 1976. Crisis around 2005 AD? A Technology-population Interaction Model. General Systems 21: 137–138.
Taagepera R. 1979. People, Skills, and Resources: An Interaction Model for World Population Growth. Technological Forecasting and Social Change 13: 13–30.
Tanno K., Willcox G., Muhesen S., Nishiaki Y., Kanjo Y., Akazawa T. 2013. Preli-minary Results from Analysis of Charred Plant Remains from a Burnt Natufian Building at Dederiyeh Cave in Northwest Syria. Natufian Foragers in Levant: Terminal Pleistocene Social Changes in Western Asia / Ed. by O. Bar-Yosef, F. R. Valla, pp. 83–87. Ann Arbor: International Monographs in Prehistory.
Tattersall I. 2008. The World from its Beginnings to 4000 BCE. Oxford: Oxford University Press.
Tattersall I. 2012. Masters of the Planet: Seeking the Origins of Human Singularity. New York: Palgrave Macmillan.
Teulings C., Baldwin R. (Eds.). 2014. Secular Stagnation: Facts, Causes, and Cures. London: CEPR.
Tsirel S. V. 2004. On the Possible Reasons for the Hyperexponential Growth of the Earth Population. Mathematical Modeling of Social and Economic Dynamics / Ed. by M. G. Dmitriev, A. P. Petrov, pp. 367–369. Moscow: Russian State Social University.
Turnbaugh W. A., Nelson H., Jurmain R., Kilgore L. 1993. Understanding Physical Anthropology and Archaeology. 5th ed. Minneapolis: West Publishing Company.
Tylecote R. F. 1976. The Technique and Development of Early Copper Smelting. A history of metallurgy / Ed. by R. F. Tylecote, pp. 5–9. London: The Metals Society.
UN Population Division 2019. United Nations Population Division Database. New York, NY: United Nations. URL: http://www.un.org/esa/population.
Vega-Centeno R. 2010. Cerro Lampay: Architectural Design and Human Interaction in the North Central Coast of Peru. Latin American Antiquity 21(2): 115–145.
Vries J. de, Woude A. van der. 1997. The First Modern Economy. Success, Failure, and Perseverance of the Dutch Economy, 1500–1815. Cambridge: Cambridge University Press.
Wallerstein I. 1974. The Modern World-System. Vol. 1. New York: Academic Press.
Wallerstein I. 1980. The Modern World-System. Vol. 2. New York, NY: Academic Press.
Wallerstein I. 1987. The Modern World-System. Vol. 3. New York: Academic Press.
Wallerstein I. 1988. The Inventions of Time-Space Realities. Towards an Understan-ding of Our Historical Systems. Geography 73/4: 289–297.
Wells P. S. 2011. The Iron Age. European Prehistory. Interdisciplinary Contributions to Archaeology / Ed. by S. Milisauskas, pp. 461–464. Boston, MA: Springer.
Wenke R. J. 1990. Patterns in Prehistory. New York, NY; Oxford, UK: Oxford University Press.
White L. Jr. 1978. Medieval Religion and Technology: Collected Essays. Berkeley, CA: University of California Press.
Wymer J. 1982. The Paleolithic Age. London; Sydney: Croom Helm.
Zeder M. A., Hesse B. 2000. The Initial Domestication of
Goats (Capra hircus) in the Zagros
Mountains 10,000 Years Ago. Science 287(5461): 2254–2257. DOI: 10.1126/
science.287.5461.2254.
Zinkina J., Christian D., Grinin L., Ilyin I., Andreev A., Aleshkovski I., Shulgin S., Korotayev A. 2019. Big History of Globalization. The Emergence of a Global World System. Cham: Springer.
Zinkina J., Ilyin I., Korotayev A. 2017. The Early Stages of Globalization Evolution: Networks of Diffusion and Exchange of Domesticates, Technologies, and Luxury Goods. Social Evolution & History 16(1): 69–85.
Zinkina J., Korotayev A. 2014a. Explosive Population Growth in Tropical Africa: Crucial Omission in Development Forecasts (Emerging Risks and Way Out). World Futures 70(4): 271–305.
Zinkina J., Korotayev A. 2014b. Projecting Mozambique's Demographic Futures. Journal of Futures Studies 19(2): 21–40.
* Исследование выполнено при поддержке Российского научного фонда (проект 23-11-00160 «Моделирование и прогнозирование развития стран БРИКС в XXI в. в контексте мировой динамики»).
Для цитирования: Гринин Л. E., Гринин А. Л., Коротаев А. В. 2023. Долгосрочная динамика технологического роста (с 40 000 лет до н. в. до раннего XXII в.), количественный анализ. История и Математика: Анализ глобального социоприродного развития / Отв. ред. Л. Е. Гринин, А. В. Коротаев. Волгоград: Учитель. С. 140–207. DOI: 10.30884/978-5-7057-6258-3_08.
For citation: Grinin L. E., Grinin A. L., Korotayev A. V. 2023. Long-Term Dynamics of Technological Growth (40,000 BC to the Early 22nd Century), Quantitative Analysis. Hystory and Mathematics: Analysis of Global Socio-Natural Development / Ed. by L. E. Grinin, A. V. Korotayev. Volgograd: Uchitel. Pp. 140–207 (in Russian). DOI: 10.30884/978-5-7057-6258-3_08.
[1] Важно отметить, что мы имеем в виду не непрерывное и
регулярное влияние, а, скорее, качественный прорыв. Если после прорыва в более
фундаментальной сфере другие сферы не догоняют его, развитие в рамках первой
замедляется (подробнее см.: Гринин 2006а;
Gri-
nin L., Grinin A., Korotayev 2017a).
[2] Существуют различные взгляды на функцию роста научно-технического прогресса: экспонента (Kurzweil 2001), суперэкспонента (Nagy 2011), логистическая кривая (Ayres 2006), множественные S-образные кривые (Sood, Tellis 2005). Кроме того, различные типы технологий развиваются с разными скоростями и функциями (см., например: Koh, Magee 2006).
[3] Для краткости часто обозначаемый как промышленный.
[4] Иногда этот рубеж перехода к собственно человеческому обществу называют «верхнепалеолитической революцией». Используя название книги П. Мелларса и К. Стрингера, такое резкое изменение также можно было бы назвать «человеческой революцией» (The Human Revolution [см.: Mellars, Stringer 1989]).
[5] Здесь и далее все даты охотничье-собирательского и аграрно-ремесленного принципов производства, а также некоторые другие даны приблизительно, они округлены для целей вычисления (вариации более точных датировок см.: Гринин Л. Е., Гринин А. Л. 2015в; Grinin L. Grinin A. 2016).
[6] Это остаточное противоречие проявлялось в том числе в расогенезе (Ярыгин и др. 1999, кн. 2; Алексеев 1986; интересные примеры биологических адаптаций приведены, в частности, у Г. Спенсера [1899, т. 1]).
[7] Во время последней ледниковой эпохи (так называемый вюрм III), которому в Европейской России соответствует осташковское, или поздневалдайское, оледенение. Максимум оледенения и похолодания приходился примерно на период 20–17 тыс. л. н., температуры в среднем снизились более чем на 5 градусов (см.: Величко 1989: 13–15; см. также: Любин 1970: 25). О технологиях и археологических данных см.: Jochim 2011b; Shea 2013. Для обозначения культур, которые не были полностью или частично затронуты климатическими изменениями в конце ледникового периода, как, например, для Леванта, Северной Африки и Юго-Западной Азии в период после верхнего палеолита и до неолита, между приблизительно 20 000 и 10 000 л. н. археологи используют термин «эпипалеолит». Таким образом, он пересекается с поздним верхнепалеолитом и мезолитом в Европе (Shea 2013). В нашей периодизации эпипалеолит сочетается с третьей – шестой фазами.
[8] Формирование призводящих экономик в Центральных Андах и Мезоамерике началось в 7–6-м тыс. до н. э. (см.: Березкин 2007б; 2013: 17; Dillehay et al. 2010; Quilter et al. 1991; Vega-Centeno 2010).
[9] Отметим, что некоторые из этих технологических новаций (например, гончарный круг) впервые фиксируются в более ранний период, однако именно в рассматриваемый период происходит их действительно широкое внедрение в областях мир-системного ядра (см., например: Jarrige 1977; Jasim 1983).
[10] Порядок букв в аббревиатуре не отражает относительной важности областей комплекса. Например, биотехнологии будут важнее нанотехнологий, не говоря уже об аддитивном производстве. Порядок определяется просто удобством произношения.
[11] В квадратных скобках мы даем названия фазовых переходов из нашей периодизации, которые соответствуют периодам по Панову.
[12] Прекрасным примером является изучение иностранных языков. Хорошо известно, что детям и подросткам изучение иностранных языков дается легче, чем пожилым людям.
[13] Согласно другим исследованиям, производительность труда достигает пика в возрасте от 35 до 54 лет (Park, Shin 2015: 109). Тем не менее в предпенсионном возрасте она начинает резко снижаться.
[14] Что не исключает, а скорее предполагает, что такому переходу будет предшествовать период обострения социальных отношений, в ходе разрешения которого и могут быть выработаны новые стандарты и отношения.





